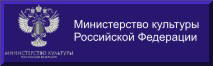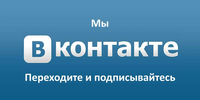"Археологические Вести", СПб., 2005. Выпуск 12. Аннотация
«Археологические Вести» № 12 являются обобщающим сборником трудов, выпускаемых ИИМК РАН. В очередной том включены статьи, посвященные новейшим исследованиям в области археологии и истории. Впервые вводятся в научный оборот материалы из раскопок поселений Юдиново и Бирючья Балка – ключевых верхнепалеолитических памятников Русской равнины. В ряде статей рассматриваются отдельные категории археологического материала различных эпох, в частности, античные веретена из Северного Причерноморья, геральдический пояс с верхнего Таласа (Кыргызстан), североевропейские и восточные древности в междуречье Днепра и Ловати, древнерусские предметы христианского культа Западной Подолии и Юго-Западной Волыни и др. Целый ряд статей посвящен изучению различных археологических предметов и материалов методами естественных наук. Специальный раздел сборника составляют статьи по актуальным проблемам археологии. В них публикуются результаты обобщающих исследований по античной археологии – о «Скифской Диане» из Неми (Центральная Италия) и о семантике изображений на золотых статерах Пантикапея, а также освещаются проблемы истории ранних обществ Еразии и Древнего Востока – культовое строительство в Северной Месопотамии в эпоху докерамического неолита, формирование культуры Заманбаба в Узбекистане и культурный вклад степных народов в общеисторический процесс. В сборнике дается информация о важнейших международных конференциях и обозрение новейших отечественных и зарубежных публикаций. Один из разделов посвящен истории науки, статьи которого основываются на богатейших фондах научного архива ИИМК. Среди авторов ежегодника ученые из различных центров России (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Анапа, Екатеринбург, Калуга, Воронеж, Новгород), Украины (Киев, Тернополь), Узбекистана (Самарканд) и Дании (Орхус).
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Григорьева Г. В. Планиграфия бус-нашивок верхнепалеолитического поселения Юдиново (1988-1990, 1995-1997, 2000-2003 гг.)
Костяные изделия – особая категория находок, определяющая и подчеркивающая своеобразие памятников.
В Юдиново было широко развито косторезное мастерство, особенно обработка бивня, из которого изготавливали разнообразные изделия.
Бусы-нашивки – наиболее многочисленная группа поделок Юдинова. Их найдено более 17000 вместе с фрагментами и заготовками. Бусы-нашивки – это миниатюрные, тонкие, плоские, изящные изделия из бивня, разной формы: прямоугольные, овальные, сегментовидные, округлые. Размеры их: длина 0,5–0,9 см, более крупные 1–1,5 см, ширина – 0,5–0,7 см, толщина – 0,1–0,2 см, диаметр округлых – 0,5–0,7 см
Они распространены почти по всей исследованной площади поселения. Больше их обнаружено в жилищах, яме-зольнике, за пределами жилищ – около очага, в небольшой яме, скоплениях костей, возможно, местах их обработки, единичных квадратах.
Оригинальность и особенность бус-нашивок Юдинова позволяют выделить их в особый тип.
За пределами Поднепровья подобных изделий нет. Хотя бусы известны в разнокультурных и разновременных памятниках Восточной Европы и Сибири, но они существенно отличаются от юдиновских.
G. V. Grigoryeva. Planigraphy of Clothing Beads from the Upper Palaeolithic Site of Yudinovo (Excavations of 1988–1990, 1995–1997, 2000–2003)
Bone artefacts pertain to a special category of finds defining and stressing the peculiarity of a site.
In Yudinovo, bone-carving crafts were highly developed, especially working of tusks from which fairly diverse objects were manufactured.
Beads sewn on to clothing are the most numerous group of finds from Yudinovo. Together with fragments and blanks, more than 17,000 of such objects have been found here. These are miniature, thin and flat, refined decorations of various shapes made from tusk: rectangular, oval, segment-shaped, or circular. Their dimensions: length 0.5–0.9 cm or 1–1.5 cm for the larger ones, width 0.5–0.7 cm, thickness 0.1–0.2 cm; diameter of the circular examples — 0.5–0.7 cm.
These finds are distributed throughout almost the entire excavated area of the site. The most numerous examples were found in dwellings, in an ash-pit, and outside dwellings — near a hearth-place, in a small pit, among bone accumulations, in the places where probably they were worked, and in some single excavated squares.
The originality and peculiarity of the clothing beads from Yudinovo allow us to segregate them into a separate type.
Outside the limits of the Dnieper area no such objects have been discovered. Although finds of beads are reported from East-European and Siberian sites of various cultures and different periods, those differ essentially from the Yudinovo examples.
Матюхин А. Е. Позднепалеолитические индустрии с двусторонними остриями долины Северского Донца
В настоящей статье рассматриваются поздненеолитические памятники с двусторонними остриями, расположенные в долине Северского Донца (х. Кременской, Константиновского района Ростовской области). Памятники приурочены к балке Бирючьей и занимают участок около 2 км (рис. 1). Памятники Бирючья балка 1 и 1a содержат листовидные острия, а Бирючья балка 1b и 2 – треугольные острия.
Индустрия Бирючьей балки 1 связана со слоем 2. Основная масса изделий – отщепы and debris. Нуклеусы малочисленны. Пластины представлены главным образом фрагментами. Они маловыразительны. Среди орудий выделены скребки (рис. 2: 5), остроконечники (рис. 2: 3), скребла, но в основном бифасиальные формы. Типологически это грубые бифасы (рис. 2: 6–9), реже – листовидные острия (рис. 2: 4). В действительности все бифасы являются незаконченными листовидными остриями. Бирючья балка 1 – это специализированная мастерская по изготовлению этих орудий.
На Бирючьей балке 1a бифасиальные орудия связаны со слоями 3б, 3, 3а и 2. Для слоя 3 получена AMS дата 36000 ± 280 (Beta 183587). Индустрия всех слоев содержит огромное количество отщепов и debris. Нуклеусов мало. Практически все сколы связаны с приготовлением орудий. Орудия на отщепах и пластинах (скребки, скребла) единичны (рис. 3: 2). Преобладают двусторонние орудия: бифасы, листовидные острия и орудия с усеченными концами. Бифасы обнаружены во всех слоях (рис. 3: 4–5, 8–9; 4: 2, 5, 8, 10). Многие бифасы имеют крупные размеры и грубый облик (рис. 3: 8; 4: 10). У некоторых бифасов отмечены зауженные пропорции (рис. 3: 4, 9; 4: 5). Двусторонние острия обнаружены в слоях 2, 3 и 3б в виде фрагментов (рис. 3: 1, 6-7; 4: 1, 7). Целые экземпляры единичны (рис. 4: 4, 9). Трудно поэтому представить форму законченных орудий. Преобладают орудия листовидной формы. Интересны острия подтреугольной формы (рис. 4: 4, 6). Примечательны листовидные острия с усеченными концами, выявленные в слоях 3а и 3 (рис. 3: 3; 4: 3). Назначение их пока неясно. Индустрии Бирючьей балки 1а свидетельствуют о мастерских по приготовлению листовидных острий и листовидных орудий с усеченными концами.
Индустрия Бирючьей балки 2 (слой 3) содержит нуклеусы, отщепы (рис. 5: 10), выразительные пластины (рис. 5: 11), debris, а также немногочисленные орудия. Орудия на отщепах представлены скребками (рис. 5: 1–2) и скреблами (рис. 5: 9). Бифасиальные орудия разделены на собственно бифасы и треугольные острия. Бифасы имеют крупные и мелкие размеры (рис. 5: 6–7, 12). Все они незакончены. Треугольные острия имеют относительно крупные размеры и укороченные пропорции (рис. 5: 3–5, 8). Основание этих орудий имеет прямые и слабо вогнутые очертания. Бирючья балка 1b – мастерская по изготовлению пластин и треугольных острий.
Бирючья балка 2 является среди других самым представительным памятником. Здесь в ходе многолетних раскопок выявлены 6 мустьерских и 4 позднепалеолитических слоя. Самым богатым оказался слой 3, для которого получены две AMS даты: 26390 ± 200 BP (Beta 177776) и 31560 ± 200 BP (Beta 183589). В позднепалеолитических слоях выделено огромное количество отщепов, пластин, нуклеусов и debris. Орудия составляют менее 1% от общего числа изделий. Большой серией представлены скребки (рис. 6: 1–2, 4–6, 8–9), скребла (рис. 7: 10) и бифасиальные орудия. Остроконечников мало (рис. 6: 3). Среди бифасов присутствуют грубые (рис. 6: 12) и относительно тщательно обработанные (рис. 6: 11, 12) экземпляры. Есть основания считать, что все бифасы, а также многие сложные скребла и др. являются на деле незаконченными треугольными остриями. Последние имеют относительно крупные и мелкие размеры (рис. 7–8). Причем мелкие орудия довольно многочисленны. Треугольные острия имеют слабо и умеренно удлиненные пропорции. Заметно удлиненные орудия встречаются реже (рис. 7: 5–6, 8–12; 8: 15, 18, 21). Основание острия имеет слабо вогнутые и прямые очертания. Индустрия Бирючьей балки 2 близка по многим показателям к Бирючьей балке 1b.
По наличию именно треугольных острий Бирючья балка 1b и 2 сближается с памятниками так называемой Стрелецкой культуры на Среднем Дону, а также Сунгирем под Владимиром и Гарчи 1 в Приуралье. Следует отметить, что этого показателя недостаточно для объединения всех памятников в одну (стрелецкую) культуру. Другие типологические показатели каменных орудий этих памятников и другие типы изделий, в частности изделия из кости, свидетельствуют против такого объединения. По нашему мнению присутствие треугольных острий в отдаленных друг от друга на значительное расстояние памятниках носит не культурный, а конвергентный характер. Более целесообразно относить Бирючью балку 1b и 2 к индустриям с треугольными остриями, а не к стрелецкой культуре. На деле культурная принадлежность всех указанных выше памятников различна. Неясной пока остается и культурная принадлежность Бирючьей балки 1 и 1a. Уместно ограничиться общим определением и отнести их к группе индустрий с листьевидными остриями. Вполне оправданно ставить вопрос о существовании в долине Северского Донца двух групп индустрий, различных в культурном отношении. Не исключено, что между ними есть и определенный хронологический разрыв.
A. E. Matyukhin. Late Palaeolithic Industries with Bifacial Points from the Seversky Donets Valley
This article deals with Late Neolithic sites situated in the valley of the Seversky Donets River (khutor Kremenskoy, Konstantinovsky region, Rostov oblast) noted for finds of bifacial points. These sites are located near the Biryuchya balka (gully) occupying an area of about 2 km (fig. 1). At the sites of Biryuchya Balka 1 and 1a leaf-shaped points have been found whereas those of Biryuchya Balka 1b and 2 are marked by triangular points.
The industry of Biryuchya Balka 1 is represented by finds from Layer 2. Most of the artefacts are flakes or debris. Cores are not numerous. Blades have been found mostly in a fragmentary state and are rather inexpressive. Scrapers (fig. 2: 5), points (fig. 2: 3) and side-scrapers have been distinguished among the tools, although bifacial forms predominated. In terms of typology the latter are crude bifaces (fig. 2: 6–9) or occasionally leaf-shaped points (fig. 2: 4). All these bifaces are in fact incomplete leaf-shaped points. Biryuchya Balka 1 was thus a specialized workshop for manufacture of these tools.
At Biryuchya Balka 1a, bifacial tools are found in layers 3b, 3, 3a and 2. Layer 3 is AMS dated to 36000 ± 280 (Beta 183587). The industry of all the layers mentioned above contains numerous flakes and debris. Nuclei are fairly uncommon. Practically all of the flakes were connected with manufacture of tools. Flake and blade tools (scrapers and side-scrapers) are extremely rare (fig. 3: 2), bifacially chipped ones being predominant: bifaces, leaf-shaped points and truncated tools. The bifaces have been found in all these levels (fig. 3: 4–5, 8–9; 4: 2, 5, 8, 10), many of them being of large size and crude appearance (fig. 3: 8; 4: 10). Some of the bifaces are noted for narrowed proportions (fig. 3: 4, 9; 4: 5). Bifacial points have been found in layers 2, 3 and 3b mostly as fragments (fig. 3: 1, 6-7; 4: 1, 7), finished examples being very rare (fig. 4: 4, 9). It is therefore difficult to form an idea of the finished tools. Those of a leaf-shaped type predominate. Noteworthy are points of a nearly triangular shape (fig. 4: 4, 6). Also remarkable are leaf-shaped points with truncated ends found in layers 3a and 3 (fig. 3: 3; 4: 3). Their purpose is as far unclear. The industries of Biryuchya Balka 1 suggest the existence here of workshops for manufacture of leaf-shaped points and truncated leaf-shaped tools.
The industry of Biryuchya Balka 2 (Layer 3) is represented by cores, flakes (fig. 5: 10), fairly distinctive blades (fig. 5: 11), debris, as well as scarce tools. The flake tools include scrapers (fig. 5: 1–2) and side-scrapers (fig. 5: 9). The bifacial tools are subdivided into bifaces proper and triangular points. The bifaces are both large and small in size (fig. 5: 6–7, 12), all of them being unfinished. The triangular points are relatively large with shortened proportions (fig. 5: 3–5, 8). The bases of these tools have either straight or slightly concave outline. Biryuchya Balka 1b can be considered as a workshop for manufacture of blades and triangular points.
Biryuchya Balka 2 is the most representative among the sites under discussion. In the course of excavations of many years, six Mousterian and four Late Palaeolithic layers have been discovered here. Layer 3 proved to be the richest and two AMS dates have been obtained for it: 26390 ± 200 BP (Beta 177776) and 31560 ± 200 BP (Beta 183589). In the Late Palaeolithic layers extremely numerous flakes, blades, cores and debris have been found. Tools amount to less than 1% of the total number of the artefacts. A large series is constituted by scrapers (fig. 6: 1–2, 4–6, 8–9), side-scrapers (fig. 7: 10) and bifacial tools. Points are rather scarce (fig. 6: 3). The bifaces include both crude (fig. 6: 12) and relatively carefully chipped (fig. 6: 11, 12) specimens. We have grounds to suppose that all the bifaces, as well as many of the more elaborate side-scrapers etc., are in fact unfinished triangular points. The latter include both relatively large and small tools (fig. 7–8), the smaller pieces being fairly numerous. The triangular points have slightly or moderately elongated proportions, markedly elongated tools being more uncommon (fig. 7: 5–6, 8–12; 8: 15, 18, 21). The bases of the points have slightly concave or straight outline. The industry of Biryuchya Balka 2 is close in many aspects to that of Biryuchya Balka 1b.
It is exactly the triangular points that make Biryuchya Balka 1b and 2 similar to sites of the so-called Streletskaya culture on the middle Don River, as well as to Sungir near Vladimir and Garchi 1 in the Ural region. It should be mentioned that this indication is insufficient for uniting all these sites into a single (Streletskaya) culture. The other typological features of stone tools from them and differing types of artefacts, in particular those of bone, contradict this unification. In my opinion, the presence of triangular points in such widely separated contexts is of convergent rather than of cultural character. It would be more grounded to consider Biryuchya Balka 1b and 2 as a group of industries with triangular points but not as belonging to the Streletskaya culture. In fact, all the sites mentioned above differ culturally from each other. The attribution of Biryuchya Balka 1 and 1a is still obscure. It seems appropriate to limit ourselves just with a general definition placing them into the group of industries with leaf-shaped points. It is justifiable to suggest that in the valley of the Seversky Donets, two groups of industries differing in their cultures existed. We may not rule out that these were separated chronologically too.
Жущиховская И. С. Технология формовки на шаблоне в древнем гончарстве Дальнего Востока России
Прием формовки керамических емкостей с помощью шаблонов известен в гончарстве как древних, так и традиционных культур ряда районов мира. Технологические характеристики этого приема – простота, малые временные затраты, нетребовательность к качеству формовочной массы. Основной недостаток – ограниченные возможности моделирования формы глиняной емкости.
Археологические памятники Российского Дальнего Востока (рис. 1) содержат материалы, позволяющие проследить пространственно-временное распространение технологии формовки на шаблоне в древнем гончарстве этого обширного региона. Выявленная динамика находит объяснение с позиций адаптационного подхода, в контексте действия природно-климатического фактора.
В материковых областях юга Дальнего Востока (Приамурье, Приморье) прием формовки на шаблоне использовался на самой ранней стадии истории гончарства. Согласно полученным к настоящему времени данным, изготовление керамической посуды стало известно на этих территориях около 13–9 тыс. лет назад, в период позднего плейстоцена – раннего голоцена, тогда же, когда первая керамика появилась на Японских островах и в Восточном Китае. Исследование древнейшей керамики из памятников Приамурья и Приморья с применением экспериментального подхода позволяет предполагать, что сосуды формовались с помощью плетеных шаблонов (рис. 2). В зависимости от использовавшегося сырья и его обработки шаблоны могли быть жесткие (корзинки) и мягкие (травяные мешочки, сумки).
Начиная с эпохи неолита в гончарстве культур Приморья и Приамурья ведущей становится технология кольцевого налепа, более сложная и трудоемкая, чем формовка на шаблоне, но вместе с тем открывающая значительно более широкие возможности моделирования формы глиняной емкости. Прием кольцевого налепа устойчиво существовал в гончарстве этих районов вплоть до периода ранних государств (VII–XIII вв.). Смену приема формовки на шаблоне технологией кольцевого налепа надо рассматривать в связи с общим поступательным развитием гончарства в благоприятных климатических и сырьевых условиях юга Дальнего Востока. Достаточно продолжительный рабочий сезон (4–5 месяцев в году) и изобилие качественного глинистого сырья способствовали усложнению операций гончарного цикла, появлению новых технологических традиций.
В северных районах Дальнего Востока (Чукотка, Приохотье) технология формовки на шаблоне распространилась с 3–2 тыс. до н.э. с приходом сюда гончарства из Восточной Сибири, и сохранялась неизменной до XVI–XVII вв., т.е. до времени упадка и исчезновения навыков изготовления глиняной посуды. В качестве шаблонов использовались емкости-мешочки из растительного сырья, ткани и, возможно, китового уса (рис. 3). Формы посуды культур Севера отличались значительным однообразием и оставались практически неизменными на протяжении нескольких тысячелетий существования гончарства. Стабильность технологии формовки на шаблоне в древнем северном гончарстве обусловливается общей природно-климатической ситуацией, крайне неблагоприятной для занятий гончарством и требующей использования простых и экономичных по времени приемов и операций. Весь производственный цикл северного гончарства был ориентирован на «технологический минимализм».
I. S. Zhushchikhovskaya. The Moulding Technology in Prehistoric Pottery-Making in the Russian Far East
The method of shaping ceramic containers by moulding them from templates is known in pottery both of ancient cultures and modern traditional ones in a number of regions of the World. The technological advantages of this method are its simplicity, small time-cost and unexacting requirements for the quality of the paste. The main drawback is the limited possibility of shaping a clay container.
Archaeological sites of the Russian Far East (Fig. 1) have yielded certain evidence which allows us to trace the spatial and temporal distribution of the technology of moulding from templates in the ancient pottery-making of this vast region. The dynamics revealed may be explained in terms of the adaptive approach within the context of the effects of the natural and climatic factors.
In the mainland regions of the southern Far East (the Amur region and Russian coastal regions or Primorye) moulding from a template was used at the earliest stage of pottery-making. According to the evidence presently available, making of ceramic pottery started in these territories c. 13–9 millennia ago, in the late Pleistocene – early Holocene, i.e. synchronously with the appearance of the first ceramics on the Japanese islands and in eastern China. Studies of the earliest pottery from Amur and Primorye sites with application of experimental approaches give us grounds to suppose that these vessels were shaped by means of woven templates (Fig. 2). Depending on the source materials used and their treatment, the templates were made either rigid (baskets) or supple (grass bags).
Since the Neolithic period, in the pottery-making of the Amur and Primorye cultures, the technology of encircling application of paste came to be dominating. This technology was more complicated and laborious than that of moulding from templates, but instead it allowed considerably wider possibilities of shaping the containers. The method of encircling application had been existing stably in the regions under consideration until the period of early states (7th–13th centuries). The replacement of moulding from templates for the technology of encircling application must be regarded as a result of the general advances of pottery-making under the beneficial climatic and raw-material conditions in the south of the Far East. The fairly long working season (4–5 months a year) and abundance of high-quality clays encouraged the complication of the operations of pottery-making cycles and emergence of new technological traditions.
In the northern regions of the Far East (Chukotka and the Sea of Okhotsk area) the technology of moulding from templates became widespread since the 3–2 mil. BC with borrowing of the pottery-making technology from Eastern Siberia and had continued without any changes until the 16th–17th centuries, i.e. the period of the decline and disappearance of the skills of making clay pottery. Used as the templates were containers-bags made from plants, tissues or, possibly, baleen (Fig. 3). Shapes of the pottery of northern cultures were fairly uniform and practically did not change throughout several millennia of pottery-making. The stability of the technology of moulding from templates in the early northern pottery-making resulted of the general natural and climatic situation extremely unfavourable to the manufacture of pottery and demanding simple and time-sparing methods and operations. The entire process of production was oriented to a “technological minimalism”.
Егорьков А. Н., Е. И. Гак, Н. И. Шишлина. Состав металла Калмыкии в бронзовом веке
Состав медных сплавов бронзового века Кавказа и прилегающих районов давно попал в поле зрения исследователей, послужив предметом ряда публикаций (Черных 1966, Кореневский 1988, Галибин 1991). Своеобразие этого металла, заключающееся в высоком содержании никеля во многих образцах периода ранней бронзы, явилось причиной для формулирования разных, причем взаимоисключающих взглядов на это явление (Черных 1966; Галибин 1991; Егорьков 2002). Такое разнообразие подходов вызвано, вероятно, еще и тем, что для бронзы Кавказа плохо разработан географический контекст: металл прилегающих областей изучен явно недостаточно и в массе не опубликован. Представленные в настоящем исследовании результаты анализа свыше полусотни образцов металла с территории Калмыкии и сопредельной Ростовской области (Шахаевская группа могильников) имеют целью, в некоторой степени, восполнить этот пробел. Из рассмотрения исключены лишь литые украшения с высоким содержанием мышьяка, которые предполагается рассмотреть как самостоятельный объект исследования, а также металл Ергенинского могильника, состоящий в основном из латунных изделий (Гак 2002).
Все образцы на анализ взяты в предметах, хранящихся в фондах Государственного Исторического музея. Они происходят из курганных погребений ямной, катакомбной культур и финала эпохи средней бронзы. Местонахождение могильников с исследованным металлом обозначено на карте (рис. 1). Авторы раскопок перечислены в подписи к карте. Годы раскопок указаны в таблице с результатами анализа.
Эмиссионно-спектральный анализ выполнен в Лаборатории археологической технологии ИИМК РАН по ранее описанной методике (Егорьков 2001: 85). В большинстве случаев пробы представляли собой окисленный металл в виде куприта, допускающего определение элементов, входящих в исходный металл, при соответствующем увеличении навески образца на сжигание. Процентное содержание элементов приведено в таблице, медь – основа во всех случаях. Анализы расположены по возрастанию лабораторного шифра в пределах отдельного могильника, сами могильники – в порядке возрастания их номера на карте. Сокращенное обозначение культур в таблице: ВМКК – восточноманычская катакомбная культура, ЗМКК – западноманычская катакомбная культура, РКК – раннекатакомбная культура, РЭСБ – ранний этап средней бронзы, ФСБ – финал средней бронзы, ЯК – ямная культура, к. – курган, п. – погребение.
Как видно из таблицы, в составе металла постоянно присутствует мышьяк, который в подавляющем большинстве случаев является ведущей примесью. Малочисленные исключения составляют восточноманычский образец 31, где при наименьшем содержании мышьяка в приплаве преобладает олово, а также образцы 8 и 16 из могильника Зунда-Толга-1 с преобладанием сурьмы над мышьяком. Высокое, но не преобладающее, содержание сурьмы отмечается еще для образцов 9 и 21 из того же могильника, а замыкает ряд образцов с высоким содержанием сурьмы уже упомянутая оловянная бронза (образец 31). Другими общими свойствами всего рассматриваемого металла являются низкое содержание или отсутствие серебра, висмута, кобальта, железа, марганца, свинца. Никель также на низком уровне, за исключением образца 52 из могильника Шахаевский II, где его содержание в 1,5% находится на уровне, характерном для образцов ранней бронзы Кавказа, что, впрочем, не удивительно, поскольку этот образец относится к тому же времени и происходит из погребения ямной культуры. Кроме того, умеренным оказалось содержание никеля (свыше или равным 0,1%) в образце 10 и выходящем из общего ряда образце оловянной бронзы 31. Общее низкое содержание железа, не превышающее во всех, кроме одного – 14 (0,2%), случаях величины 0,1%, свидетельствует об умении древних местных металлургов идеально проводить ошлаковывание выплавляемой меди и с несомненностью указывает на высокий уровень развития металлургии. Однако следует отметить, что здесь анализа за значимые приняты концентрации элементов от 0,01% и выше, а сами образцы в большинстве случаев представлены купритом, хотя и допускающим количественный анализ на микроэлементы, но все же вряд ли сохраняющим их содержание в полной мере.
Если заметное присутствие мышьяка является общим для всех приведенных здесь археологических объектов, то по содержанию других элементов некоторые памятники по составу металла показывают явное своеобразие. Так, высокое содержание сурьмы характерно (за исключением выбивающейся из общего ряда оловянной бронзы 31) только для могильника Зунда-Толга-1. Устойчивое, но на более низком уровне, присутствие сурьмы наблюдается в металле могильников Восточного Маныча. В свою очередь, металл могильников Шахаевский I и II в большинстве случаев имеет низкое, но заметное, содержание цинка, являющегося, как следует думать, рудной примесью. Еще большее содержание цинка, как уже отмечено выше, наблюдается в металле Ергенинского могильника, где цинк, присутствуя во всех одиннадцати проанализированных образцах, преобладает над мышьяком и другими элементами в десяти из них, доходя до 11% (Гак 2002).
По содержанию мышьяка трудно выявить какие-либо характерные группы, не прослеживается и его зависимость от функционального назначения изделий: и в инструментах, и в украшениях оно непостоянно и колеблется примерно в одинаковых пределах. Можно лишь отметить несколько более высокий общий уровень содержания мышьяка в металле из могильников Зунда-Толга-1 и Шахаевский I и II. Предметы, металл которых содержит олово (31 и 39), из-за простоты формы или фрагментарности типологически не выделяются из инвентаря погребений, но оба относятся к двум представленным в таблице образцам финала средней бронзы, то есть относительно поздним.
Представленные в работе материалы принадлежат к ямной и кругу катакомбных культур региона, составляющих три хронологические группы: раннекатакомбная и ранний этап средней бронзы, восточно- и западноманычская, финал эпохи средней бронзы. Позднеямные погребения Шупта-1 (курган 1, погребение 2) и Манджикины-1 (курган 3, погребение 2) по данным радиоуглеродного анализа датируются серединой III тыс. до н. э. Примерно к этому же времени следует относить погребение 8 кургана 3 могильника Шахаевский II. Для раннекатакомбных погребений Шахаевских могильников даты не получены. В рамках относительной хронологии, разработанной для катакомбных древностей Нижнего Подонья (Кияшко 1999), эти комплексы соответствуют раннедонецкому периоду. На основании имеющихся радиоуглеродных дат по синхронизируемым с ними раннекатакомбным памятникам Калмыкии, указанные погребения Шахаевских могильников могут быть отнесены к XXVI-XXV вв. до н. э. Этим же временем следует датировать и погребения раннего этапа средней бронзы Калмыкии. Восточноманычская катакомбная культура относится к XXIV-XXIII вв. до н. э. (Shishlina et al. 2000). Одна имеющаяся по могильнику Шахаевский I дата позволяет отнести остальные погребения западноманычской катакомбной культуры этого могильника ко второй половине III тыс. до н. э. Финал эпохи средней бронзы Калмыкии датируется на основании радиоуглеродного анализа XXII-XIX вв. до н. э. (Мимоход, Шишлина 2004).
В целом металл Калмыкии производит двойственное впечатление. Кроме многих объединяющих признаков, он показывает и отличия, которые, как это ни удивительно, оказываются сосредоточенными в пределах отдельных археологических памятников. В наибольшей степени это проявилось в Ергенинском могильнике, где цинк по своему высокому содержанию в металле оказался в большинстве случаев ведущим приплавом, что дало возможность говорить о существовании латуней в Северо-Западном Прикаспии уже в бронзовом веке. Такое положение следует расценивать как следствие использования руды одного крупного рудопроявления, имеющего в жилах различия по содержанию отдельных элементов, и выплавки металлов не на централизованном предприятии, а на местах, вероятно с местными особенностями технологии. Различие в составе металла может быть объяснено, например, примесью к основной руде блеклых руд, которые в той или иной мере присутствуют во всех меднорудных месторождениях, и, представляя собой прослойку между первичной сульфидной рудой и поверхностной выветренной, способны накапливать в себе многие элементы, в полной мере не попадающие из первичной в выветренную (Бетехтин 1954: 199). Широкое распространение очагов металлургии в рассматриваемом регионе со всей несомненностью показывает высокий уровень ее освоения в это время.
A. N. Yegor'kov, E. I. Gak, N. I. Shishlina, Composition of Metal of the Bronze Age from Kalmykia
At present, the metallurgical history of Caucasus is far from complete understanding because the chemical composition of Caucasian metals has as yet been investigated poorly in the geographical context. Studies of the composition of metals from the Steppe of western Eurasia began only recently, too. In this paper, data are presented on the composition of more than half of the hundred metal artifacts belonging to the Yamnaya (“Pit Grave”) and Katakombnaya (“Catacomb Grave”) cultures from the territory of Kalmykia (map). The artifacts investigated come from burial mounds (kurgans). Some of them are dated approximately to the middle of the 3rd mil. BC, the other belong to the final Middle Bronze Age and are dated to the end of the 3rd or beginning of the 2nd mil. BC. All of the samples were submitted for analysis from the collection of the State Historical Museum in Moscow and were investigated by means of the optical emission spectrography. The results are presented in the table. The data obtained show that in each case copper was the major component.
All of the metal specimens analyzed contain variable arsenic additives that generally prevail over any other impurities. Nevertheless, no difference in the contents of arsenic may be observed between tools and decorative objects. Typical to each sample is the absence or very low contents of silver, bismuth, cobalt, iron, manganese and lead. Only one sample (52) showed an enhanced content of nickel. This would not have been surprising in early Caucasian bronzes but the sample mentioned (together with 26, 29, and 30) belongs to the earlier Yamnaya culture. Tin has been encountered in two specimens (31 and 39) which are the only ones dating from the final of the Middle Bronze Age. Sample 39 contains tin only as an impurity, whereas sample 31 displays relatively high content of tin and is actually a tin bronze with increased contents of antimony, lead and nickel, and simultaneously the lowest content of arsenic. A high concentration of antimony is found only in the specimens from Zunda-Tolga-1 (8-22) and the neighboring Children’s Camp “Tyulpan” (23-25) with the highest contents in samples 8 and 16. Somewhat lower concentrations of antimony are typical to the kurgans of East Manych (31-41). Slight concentrations of zinc have been found only in objects from the kurgans of Shakhaevsky I and II (42-52) in the Rostov region neighboring to Kalmykia.
The analyzed metals from Kalmykia are characterized by two peculiarities. On the one hand, they show similarity in the contents of various impurities, but on the other hand, they differ notably in certain aspects surprisingly even within some single groups of kurgans. This suggests that in the West-Eurasian Steppe, ancient metallurgists exploited an expansive ore basin with the veins having variable composition, presumably caused by the presence of fahlerz. The metallurgy was not centralized but rather practiced throughout different localities where certain local peculiarities probably existed. It is evident that during the Bronze Age a high level of metallurgy was reached in the region under consideration.
Новичихин А. А. Бронзовый клевец из станицы Гостагаевской
Статья посвящена публикации и атрибуции бронзового топорика-клевца, найденного случайно в станице Гостагаевской Анапского района Краснодарского края (рис. 1, 2).
Топорик не имеет аналогий в том регионе, где был обнаружен. По форме он более всего напоминает железные и бронзовые боевые топоры из могильников, расположенных в Западном Закавказье в районах к северу от Куры: Дванском, Брильском и Тлийском. Комплексы, содержащие аналогичные гостагаевскому клевцы датируются второй половиной VII-VI вв. до н.э. Та же дата предложена и для публикуемого экземпляра.
Во всех трех упомянутых закавказских могильниках встречены предметы скифского облика, что указывает на непосредственное пребывание здесь носителей скифской культуры в период т.н. переднеазиатских походов, и тесные контакты с ними местного населения. С окончанием походов и возвращением скифов в Предкавказье и следует связывать обстоятельства, при которых боевой топорик закавказского типа мог попасть в Западное Закубанья.
A. M. Novichikhin. A Bronze Klevets from the Village of Gostagaevskaya
The aim of this paper is the publication and identification of a bronze battleaxe or klevets found fortuitously in the stanitsa (Kossack village) of Gostagaevskaya of the Anapa region, Krasnodarsky Krai (Fig. 1, 2).
This axe has no parallels in the region where it was found. It resembles most closely in its shape the iron and bronze battleaxes from burial grounds situated in the western trans-Caucasus to the north from the Kura River: in Dvani, Brili and Tlia regions. The associations including klevetses similar to the Gostagaevskaya one are dated to the second half of the 7th or to the 6th century BC. The same date is proposed here for the example under consideration.
In each of the three mentioned trans-Caucasian cemeteries, some objects of a Scythian appearance have been found suggesting the immediate presence there of some bearers of the Scythian culture during the period of the so-called Front-Asiatic raids and their close contacts with the local population. It is with the termination of those raids and the Scythians returning to Ciscaucasia that we connect the circumstances under which our axe may have been brought to the western trans-Kuban area.
Стрельник М. А., М. А. Хомчик. Античные веретена из Северного Причерноморья (по материалам Национального музея истории Украины)
В статье дается характеристика коллекции веретен V-IV вв. до н.э. из собрания Национального музея истории Украины. Она представлена пятью экземплярами, изготовленными из кости и бронзы, которые репрезентуют почти все типы подобных предметов, выделенные археологами. К первому типу принадлежит костяное сложнопрофилированное веретено (IV в. до н. э.) из кургана №2, около с. Львово Херсонской области (рис. 1: 3). Ко второму типу относятся два костяных стержня от веретён, а так же две пронизки, украшенные плетенкой и кольцо из погребения №1 Мелитопольского кургана (Запорожская обл.) (рис. 1: 4, 5, 6). Третий тип представлен обычным костяным веретеном IV в. до н.э. из Ольвии (рис. 1: 2).
Наиболее интересными можно считать единичные находки металлических веретен. Так, в 2001 г. музей стал владельцем уникального бронзового веретена V-IV вв. до н.э. (рис. 1: 1). Оно имело вид круглого в сечении стержня с заостренным верхним концом. Нижний конец имел коничное (конусное, конечное?) окончание — классическую «бородку», характерную для веретен. Длина изделия 21,8см.
Наиболее распространенными были простые деревянные веретена, длиной 33-36 см, пряслица от которых найдены почти во всех женских погребениях Северного Причерноморья (рис. 2: 1). Поверхность их нередко покрывали резьбой и окрашивали в зеленый или красный цвет. Эта традиция подтверждается также и этнографическими источниками. Подобные веретена были распространены в западных областях Украины еще в начале XX века (рис. 2: 5).
Значительное место в статье отведено информации о проведении научного эксперимента по изготовлению нити на древних веретёнах. Эксперимент позволил более точно установить способ прядения в античную эпоху, дал возможность уточнить вес нити на веретене (починка), выяснить, какой могла быть толщина нити, а также определить, каким образом нить снимали с веретена. В эксперименте использовалось античное бронзовое веретено, а также веретена из этнографической коллекции музея (рис. 3: 1; рис. 2: 2, 3). Вес починка, в зависимости от размера веретена, колебался в пределах 50-100 г.
Изучение этнографических параллелей позволило сделать выводы о функциональном назначении различных типов пряслиц, а так же о наличии специальных приспособлений, используемых при получении нити. Так, для сучения ниток в ХIХ в. пользовались скальном, состоящим из круглой палочки и большого деревянного колесика (рис. 2: 4). А для перематывания ниток с веретена на Гуцульщине в ХIХ в. использовали так называемый веретенник (рис. 3: 3). Подобные устройства могли применять и в античную эпоху.
Изучение коллекции пряслиц позволило сделать вывод о существовании трёх больших групп пряслиц: большинство применяли во время прядения, часть, особенно те, которые имели маленькое отверстие, использовались как грузила для ткацкого станка, а большие плоские пряслица, сделанные из стенок разбитой посуды – для сучения нитей.
Из ссученых нитей женщины плели тесьму, пояса, ленты. Одним из способов такого плетения было «тканье на ниту», широко известное с древнейших времен и до начало ХХ в. (рис. 4: 1). Нить утка прибивали специальным костяным или деревянным устройством – кордиком, который напоминал большой двухлопастный наконечник стрелы. Подобное костяное изделие найдено в Ольвии во время раскопок на территории Нижнего города (рис. 4: 2).
Существенна роль пряслиц и веретён в погребальном обряде. Возможно веретёна клали могилу именно с тем починком, с которым женщина завершила свой жизненный путь.
M. A. Strel'nik, M. A. Khomchik. Ancient Spindles from the Northern Black Sea Littoral (on the basis of materials from the National Museum of the History of Ukraine)
In this paper, a characterization of the collection of spindles of the 5th and 4th centuries BC from the National Museum of the History of Ukraine is presented. The collection includes five bone and bronze examples representing almost all types of similar objects segregated by archaeologists. A bone spindle of complex profile (4th century BC) from kurgan no. 2 near the village of Lvovo, Khersonskaya oblast, belongs to the first type (Fig. 1: 3). The examples of the second type include two bone spindle rods found together with two spacer-beads decorated with guilloche and a ring in grave no. 1 of the Melitopol kurgan (Zaporozhye oblast) (Fig. 1: 4, 5, 6). The third type is represented by a plain bone spindle of the 4th century BC from Olbia (Fig. 1: 2).
Of particular interest are single finds of metal spindles. Thus in 2001, the museum became the owner of a unique bronze spindle of the 5th or 4th century BC (Fig. 1: 1). This was a rod of circular section with a point at the upper end. The lower end, near its tip, had a classical “barb” characteristic of spindles. The object is 21.8 cm long.
Simple wooden spindles 33–36 cm long are the most common. Spindle whorls from them have been found almost in all female burials excavated in the northern Black Sea area (Fig. 2: 1). These spindles often were decorated with surface carving and dyed green or red. Such a tradition is confirmed by ethnographical sources. Spindles of the kind were still widely distributed in western regions of Ukraine as late as the beginning of the 20th century (Fig. 2: 5).
This paper pays considerable attention to the information on scientific experiments in spinning fibre using ancient spindles. The experiments have yielded more detailed knowledge about the technique of spinning in the Greek and Roman period, identified more precisely the weight of the thread on a spindle and defined the possible thickness of the thread, as well as established in what way the thread was taken off spindle. In these experiments, an ancient bronze spindle and a number of spindles from the Museum’s ethnographic collection were used (Fig. 3: 1; Fig. 2: 2, 3). The weight of the thread spool on a spindle varied from 50 to 100 g.
Studies of ethnographic parallels have enabled us to draw conclusions about the purpose of different types of spindle whorls and to establish the presence of special appliances used for producing threads. Thus a skal'no or spindle consisting of a cylindrical stick and large wooden wheel (Fig. 2: 4) was used for twisting fibres in the 19th century. For spooling thread out from a spindle, a so-called veretennik (rooted from vereteno or spindle) was used in the 19th century in the Hutsul regions (Fig. 3: 3). Possibly, similar implements were used during the ancient epoch.
Studies of the collection of spindle whorls led to the conclusion that there existed three major types of these implements: most of them were used in the course of spinning, the other, particularly those with a small hole, served as loom weights, whereas the large flat whorls made from fragmentary walls of pottery were used to twist threads.
From twisted threads, women wove braids, belts and ribbons. One of the weaving techniques was the weaving onto “nita” or onto the warp, widely used since the earliest times until as late as the beginning of the 20th century (Fig. 4: 1). The woof was beat in by means of a special bone or wooden implement known as kordik which resembled a large two-bladed arrowhead. A similar bone object was found in Olbia during the excavation of the area of the “Lower Town” (Fig. 4: 2).
Spindles and spindle whorls played a significant role in funerary rites. Possibly, spindles were put into graves with exactly the same yarn on them with which the buried woman completed her course of life.
Торгоев А. И. Геральдический пояс с верхнего Таласа
В 1990 г. в разрушенном погребении на могильнике Кара-Буура в Верхний Таласе (Республика Кыргызстан) был найден типичной геральдический пояс. При доисследовании погребения было выяснено, что оно было совершено в камере-катакомбе с длинным дромосом, при скелете, кроме пояса были найдены бусы и чаша. Погребальное сооружение и обряд погребения свидетельствует в пользу того, что погребение было оставлено носителями кенкольской культуры.
Пояс состоит из бронзовых деталей. Аналогии этому поясу находятся в Восточной Европе, Сибири, Средней Азии. Этот первый случай нахождения геральдического пояса в кенкольском захоронении.
Находка его выступает аргументом в пользу мнения А. К. Амброза, о том, что верхней датой кенкольской культуры следует считать VII в. Кроме того, пояс из Кара-Бууры, и пояс из могильника Таш-Тюбе в Центральном Тянь-Шане очерчивают южную границу распространения геральдических поясов, и выступают свидетелями контактов кенкольцев с населением Восточной Европы.
A. I. Torgoev. A Heraldic Belt from the Upper Talas
In 1990, a typical heraldic belt was found in a disturbed grave at the burial ground of Kara-Buura on the upper Talas River (The Republic of Kyrgyzstan). After the excavation of the burial was completed, it became clear that it was a chamber-catacomb with a long dromos; in addition to the belt, a number of beads and a bowl were found near the skeleton. The mortuary structure and the funerary rite suggest that the grave was left by bearers of the Kenkol culture.
The belt was composed of bronze parts and has parallels in Eastern Europe, Siberia and Central Asia. This is the first instance when a heraldic belt was found in a Kenkol burial.
The find of this belt is an argument in favour of A. K. Ambroz’s opinion that the upper date of the Kenkol culture is the 7th century. Furthermore, together with the belt from the cemetery of Tash-Tyube in central Tien Shan, the find from Kara-Buura marks the southern boundary of the distribution of heraldic belts. These belts also suggest the existence of contacts between Kenkolians and the population of Eastern Europe.
Овчинникова Б. Б. «На древнем бреге Иртыша…» (из раскопок Уральской археологической экспедиции)
В 60-е годы прошлого столетия в лесостепной полосе Западной Сибири Уральской археологической экспедицией на правом берегу р. Иртыша возле деревни Соляное Черлакского района Омской области был обнаружен курганный могильник, на территории которого были проведены рекогносцировочные исследования. Визуальный осмотр показал, что на распаханном поле сохранилось одиннадцать курганных земляных насыпей (рис. 1: 1). Вскрытию подверглись два курганных захоронения – № 3 и № 9. У подножия большей части курганов были зафиксированы, слабо прослеживаемые, канавки.
Раскопки курганов показали, что памятники продолжают цепь памятников Павлодарского Прииртышья близких к сросткинской культуре и могут быть датированы – IX–Х вв. В процессе раскопок агроном совхоза деревни Соляное передал нам железный меч (рис. 3: 1), обнаруженный им при вспашке поля. Завершается меч рукоятью с антенным навершием в виде стилизованных головок ушастых грифонов обращенных друг к другу. Настоящая случайная находка меча-акинака у д. Соляное – весьма редкий экземпляр для лесостепи Западной Сибири. Наиболее вероятной датой существования данного экземпляра, согласно аналогиям, можно предположить конец VI–V вв. до н. э.
B. B. Ovchinnikova. “On the Ancient Banks of the Irtysh River” (Excavations of the Ural Archaeological Expedition)
In the 1960s, a kurgan burial ground was discovered by the Ural Archaeological Expedition on a bank of the Irtysh River near the village of Solyanoye in the Cherlaksky region, Omsk Oblast, i.e. in the forest-steppe zone of Western Siberia. The expedition has carried out reconnoitring investigations at the cemetery. A visual examination showed that eleven earthen mounds were preserved on a ploughed up field (Fig. 1: 1). Two mounded burials (no. 3 and no. 9) have been excavated. Around the feet of the most of the kurgans, poorly traceable small gutters have been recorded.
The excavation of the kurgans has shown that this cemetery is a continuation of the group of sites close to the Srostkinskaya culture in the Pavlodar regions around the Irtysh. The kurgans under consideration may be dated to the 9th-10th centuries. During the excavation, the Agronomist of the Sovkhoz of v. Solyanoe delivered us an iron sword (Fig. 3: 1) which he had found in the course of ploughing the field. The sword ended in a hilt with an antenna pommel in form of stylized heads of big-eared griffins facing each other. This chance find of a sword akinakes is a very rare example in the forest-steppe of Western Siberia. The most probable date for this item according to known parallels is presumably the end of the 6th or 5th century BC.
Еремеев И. И. Волок «с верха Днепра до Ловати» и варяги
Задача этой работы – уточнить хронологию и конфигурацию отдельных участков летописного волока «с верха Днепра до Ловати», то есть системы древнерусских коммуникаций между средним течением Ловати и верховьями Днепра.
Для решения поставленной задачи необходимо суммировать имеющуюся информацию о последовательности распространения в IX–XI вв. на интересующей нас территории вещей североевропейских типов и кладов куфических монет. Несмотря на то, что исследователи неоднократно обращались к этой теме (Бершнтейн-Коган 1950; Буров 1975; Лебедев, Булкин, Назаренко 1975; Булкин 1977; Алексеев 1980; Микляев 1992; Шмидт 1994; Нефедов 1997; Еремеев 2003), многие археологические находки, как старые, так и последних лет, до сих пор не введены в научный оборот. Данное обстоятельство заставляет нас вновь вернуться к подробному перечню находок и связанных с ними комплексов вещей.
Мы анализируем здесь преимущественно вещи, происходящие из области водосбора Верхней Двины и Верхней Ловати (рис. 13, 14) и наиболее значимые для хронологии древности из бассейна Верхнего Днепра.
Применяемое нами понятие «вещи североевропейских типов» включает три категории изделий. Как известно, в глубине восточноевропейского континента осело в IX–XI вв. значительное количество привозных скандинавских украшений, оружия и бытового инвентаря. Помимо этих вещей, на востоке Европы археологами выявлены группы изделий, изначально чуждых для местного населения, но в равной степени характерных как для Скандинавии, так и для северной части Центральной Европы (так называемые франкские мечи, односторонние наборные гребни фризско-скандинавских типов). Место их изготовления часто трудно определить, но есть основания предполагать, что их появление на востоке было чаще всего связано с ремесленной или торговой деятельностью выходцев из Скандинавии. Наконец, в результате миграций варягов на восток и интенсивных торговых контактов целый комплекс элементов художественной культуры и технологических навыков, связанных с германским миром Северной Европы, в IX–XI вв. начал самостоятельно развиваться в Восточной Прибалтике и на Руси. Достаточно сложно бывает разделить изделия североевропейских типов на импорт, вещи, изготовленные в Восточной Европе варяжскими ремесленниками, и местные подражания престижным заморским образцам. Наша задача более узкая – охарактеризовать всю совокупность находок, связанных с североевропейскими традициями, и выявить направления внутри взятого нами региона, по которым эти изделия распространялись. Для такого исследования не имеет принципиального значения, – завезены все рассматриваемые вещи из Скандинавии или частично изготовлены в восточноевропейских ремесленных центрах.
Слабая археологическая изученность региона заставляет воздержаться от узких хронологических определений и разделить объекты на две группы – древности IX – начала X в. и находки X–XI вв. Граница между ними достаточно условна. Со временем часть упоминаемых нами памятников найдет свое более определенное место в культурно-хронологической колонке, пока же любая категоричность выводов об их дате будет преждевременной. Набор изделий североевропейских типов, найденных на рассматриваемой территории, весьма разнообразен. Он включает оружие, украшения, изделия, связанные с языческими культами, бытовой инвентарь и предметы личной гигиены. Североевропейские находки происходят из погребений, культурных напластований поселений и из кладов. Известно несколько случайных находок, которые, большей частью, могут быть сопоставлены с разрушенными погребениями.
Для двух указанных отрезков времени составлены карты находок. Они показывают, что скандинавские изделия, так же, как и клады серебряных монет, не выстраиваются цепочкой вокруг некоего предполагаемого магистрального пути «из варяг в греки», а достаточно равномерно «пропитывают» значительное пространство «волока с верха Днепра до Ловати». В их выпадении можно уловить определенную динамику, характеризующую развитие древнерусских коммуникаций в области Верхнего Подвинья и Половатья.
Раньше всего, в пределах девятого столетия (ближе к его завершению), североевропейские древности начинают фиксироваться в Днепро-Двинском междуречье, куда попадают, видимо, через озеро Ильмень по Поле и/или Ловати через истоки Западной Двины, и по Торопе через Велижское Подвинье (рис. 13). Не исключено, что уже тогда функционировал путь по Кунье и Усвяче, маркированный Глазуновским кладом. На Верхний Днепр изделия североевропейских типов ввозились по Каспле и Лучосе. Возможно, тогда же возникает путь по Меже, выводивший на Вопь. Брылевский клад указывает на возможное участие в рассматриваемой системе путей Полоцка и Лукомля. Однако северных находок, датировка которых охватывает IX в., ни в одном из двух последних пунктов пока не найдено.
В X в. в систему путей сообщения вовлекается верхнее течение Ловати (рис. 14). Возрастает роль реки Усвячи – здесь возникает древнерусский город Усвят, и начинает использоваться кратчайший сухопутный путь с Усвячи на Ловать, проложенный мимо этого города. Происходит, таким образом, расширение днепровско-ловатского «коридора» в западном направлении. В некоторой степени это связано, вероятно, с тем, что в Х в. начинает полноценно функционировать торговый путь по Западной Двине на запад, в Балтийское море. Но основные причины основания Городка на Ловати и Усвята кроются, несомненно, в политических изменениях, произошедших на Северо-Западе Руси, обсуждение которых выходит за рамки этой статьи.
Древности североевропейских типов на рассмотренной территории (пожалуй, за исключением вещей из кладов) как на раннем, так и на позднем этапе преимущественно интегрированы в местный этнокультурный контекст. Погребальные насыпи, в которых они найдены, ничем не отличаются от рядовых местных курганов IX-X вв. Курганы 23 и 45 Торопецкого 2 могильника, курганы 52, 63, 64, 68 в Заозерье и курганы 3 и 6 в Шугайлово имели характерную для локальной погребальной традиции удлиненную форму. Полусферическая насыпь 67 в Заозерье была лишена ярких восточноевропейских находок, но весь облик этого некрополя, эталонного для смоленских длинных курганов, не допускает мысли о наличии здесь варяжских захоронений. Все перечисленные могильники принадлежат восточноевропейскому населению. То же самое относится и к упомянутым нами захоронениям XI-XII вв. (Дорохи V, курган 4; Старое Село, курган 2; Саки, курган 60).
Получается, что ни одно удовлетворительно документированное погребение в рассмотренных нами выше курганах не может быть названо скандинавским. Подобные предположения можно высказать только в адрес гипотетичных захоронений в Торопце (на оз.Зеликовье) и Клименках, а также разрушенных курганов в Усвятах II и плохо документированных насыпей в Коленидово и в Городке, иными словами, - в адрес не более чем двух мужчин (Усвяты II и Коленидово, курган 3) и четырех-пяти женщин (Торопец-Зеликовье; Клименки; Коленидово; курган 2; Городок; возможно, Усвяты II), умерших в IX-X вв. При этом уверенно можно говорить только о скандинавском происхождении обладательницы «магического жезла», найденного на оз.Зеликовье.
В то же время, именно материалы погребений свидетельствуют о начале проникновения скандинавов в Верхнее Подвинье. Представляется, что использование населением в погребальной обрядности ювелирных изделий североевропейского круга подразумевает их применение в быту непосредственно по назначению, т.е. в составе праздничного костюма. Едва ли такое положение имело бы место, если бы скандинавские изделия через «третьи руки» попадали к обитателям Верхнего Подвинья (особенно это касается таких специфических ювелирных произведений, как равноплечные фибулы). В последнем случае их, скорее всего, использовали бы в качестве лома для изготовления традиционных украшений. Видимо, перед глазами аборигенов в какой-то период предстали сами носительницы скандинавских фибул. В целом, значительное число североевропейских находок и, как это ни парадоксально на первый взгляд, их глубокая интеграция в местную культуру говорит о возможности древней миграции немногочисленного скандинавского населения в некоторые сельские регионы Верхнего Подвинья и Верхнего Поднепровья. Поселения этих людей, возможно, ещё будут найдены.
Изначально скандинавы попадали в Верхнеее Подвинье с севера, очевидно через Поволховье и Приильменье. Касаясь первопричин этого движения, на наш взгляд, есть основания присоединиться к точке зрения, рассматривающей северную часть «пути из варяг в греки» (между Ильменем и Днепром) как одно из ответвлений «серебряного пути» IX в., по которому поступали в Северную Европу куфические монеты (Леонтьев 1986: 6–8). Стремление к контролю над этим путем и было, вероятно, одной из главных причин, приведших в это время норманнов в верховья Западной Двины, а оттуда в верхнее течение Днепра.
Находки вещей скандинавских типов X–XI вв. на рассматриваемых территориях следует связывать уже со следующим этапом в истории Верхнего Подвинья. Присутствие здесь скандинавов в это время определялось двумя факторами: стабилизацией пути с Балтики в Киевское Поднепровье; и оформлением военно-экономических интересов Киевской Руси, Новгородской и Полоцкой земель, потребовавшим размещения в ключевых точках путей варяжских гарнизонов. Что касается таких крупных административных центров X–XI вв., как Усвят, Витебск и Городок на Ловати, дающих заметное число находок североевропейского облика, то вполне вероятно пребывание там скандинавов в качестве представителей княжеской администрации и дружинников. Присутствие норманнов в это время в Полоцко-Витебском Подвинье отражено письменными источниками. При этом подавляющую массу обитателей этих раннегородских поселений, без всяких сомнений, составляло местное население.
I. I. Yeremeev. The Portage “from the Top of the Dnieper to the Lovat River” and the Varangians.
The objective of this paper is to present more precise chronology and configuration of certain sections of the portage “from the top of the Dnieper to the Lovat River” mentioned in ancient chronicles. It was a system of early Russian communications between the middle reaches of the Lovat and upper reaches of the Dnieper rivers.
The objective mentioned above demands summarizing the information available on the sequence of the propagation of objects of North European types and hoards of Kufic coins throughout the territory under consideration in the 9th–11th centuries. Despite the fact that this subject has been already discussed not once (Бершнтейн-Коган 1950; Буров 1975; Лебедев, Булкин, Назаренко 1975; Булкин 1977; Алексеев 1980; Микляев 1992; Шмидт 1994; Нефедов 1997; Еремеев 2003), much of the archaeological evidence discovered both long ago and recently still has not been published. This circumstance compels us to review a detailed list of the finds and archaeological contexts related.
We will consider here predominantly the objects found within the water collection area of the upper Dvina and upper Lovat rivers (Figs. 13, 14) and the antiquities from the basin of the upper Dnieper which are of particular importance for chronology.
The concept of “objects of the North European types”, as it is used here, includes three categories of finds. As is well known, considerable amounts of personal adornments, weapons and various objects of everyday use imported from Scandinavia were accumulated in the inland regions of Eastern Europe in the 9th-11th centuries. In addition to the mentioned objects, archaeologists have discovered in Eastern Europe certain groups of articles originally alien to the local population, but fairly common both in Scandinavia and the northern part of Central Europe (the so-called Frank swords and one-sided composite combs of Frisian and Scandinavian types). The place of their manufacture is often difficult to establish but there are grounds to suppose that their emergence in the east was related mainly with manufacturing and trading activities of some natives of Scandinavia. Finally, migrations of Varangians to the east and their intensive trading contacts resulted in the fact that an entire complex of elements of the artistic culture and technological skills related with the Germanic world of Northern Europe began to develop independently in the eastern Baltic regions and Rus. It is fairly difficult to distinguish among objects of North European types between the imported ones and those manufactured in Eastern Europe by Varangian craftsmen or local imitations of some examples of prestige from overseas. The goal of the present paper is much narrower – to present a characterization of the entire aggregate of the finds connected with North European traditions and to establish the directions by which these articles were propagating throughout the region under consideration. For such a study, it is of no principal importance whether the objects considered were all brought from Scandinavia or some of them were made in East European manufacturing centres.
The region mentioned above has as yet been poorly studied archaeologically; therefore we must forbear any narrow chronological definitions, just dividing the objects into two groups: the antiquities of the 9th – early 10th century and finds dated from the 10th–11th centuries. The boundary between these two groups is rather arbitrary. In due time, part of the artefacts mentioned will find an exacter position in the cultural and chronological column, whilst presently any categoricalness as to their dating would be premature. The collection of articles of North European types found within the territory under consideration is very diverse. It includes weapons, adornments, objects connected with pagan cults, implements of everyday use and objects of hygiene. The North European finds come from burials, cultural layers at different settlements or from hoards. A number of chance finds are known which may have come mostly from some disturbed burials.
Mapping of the finds dated to the two periods defined above has been conducted. The maps show that Scandinavian articles, as well as hoards of silver coins, are not arranged in any chain stretched along the presumed trunk road “from the Varangians to the Greeks”. On the contrary, a considerable area of the “portage from the top of the Dnieper to the Lovat” is “steeped” fairly uniformly in them. The distribution of the finds suggests certain dynamics characterizing the development of the ancient Russian communications in the upper Dvina and Lovat regions.
The earliest North European antiquities, dated to the period within the 9th century (close to its end), are recorded between the Dnieper and Dvina rivers. They came here possibly across Lake Ilmen, via the Pola and/or Lovat rivers through the sources of the Western Dvina River and via the Toropa River through the Dvina areas around the town of Velizh (Fig. 13). It cannot be not ruled out that already then the route via the Kunya and Usvyacha rivers functioned as is attested by the Glazunovo hoard. To the upper Dnieper, articles of North European types were brought via the Kasplya and Luchosa rivers. Possibly, even then the route via the Mezha River leading to the Vop River appeared. The Brili hoard suggests the possible participation of the routes via Polotsk and Lukoml in the communication system under consideration. However, no North European objects dated from the 9th century have as yet been found in the latter two towns.
In the 10th century, the upper reaches of the Lovat River were involved into the system of communications (Fig. 14). The significance of the Usvyacha River increased – the ancient Russian town of Usvyat emerged here, and the shortest overland route from the Usvyacha around that town to the Lovat River came into use. Thus the broadening of the Dnieper-Lovat “corridor” westward took place. To some extent this was probably related with the fact that the trade route via the Western Dvina River westward to the Baltic Sea began to function in its full measure in the 10th century. Nevertheless, the main reasons for the foundation of the town of Gorodok on the Lovat and that of Usvyat were hidden undoubtedly in the political changes which took place in north-western Rus. A discussion of these changes is, however, out of the frames of this paper.
Antiquities of North European types (with the exclusion, perhaps, of objects from hoards) were generally integrated into the local ethno-cultural context in the territory under consideration both at the earlier and later stages. The burial mounds in which they were found differ in nothing from common local kurgans of the 9th and 10th centuries. Kurgans 23 and 45 at the cemetery of Toropetskiy 2, kurgans 52, 63, 64, and 68 in Zaozerye, and kurgans 3 and 6 in Shugaylovo were of the elongated shape characteristic of the local funerary tradition. The hemispheric mound no. 67 in Zaozerye was devoid of any expressive East European finds, but the entire appearance of this necropolis with its typical Smolensk long kurgans allows no idea of the presence of Varangian burials here. All the cemeteries enumerated belonged to East European population. The same is true of some burials of the 11th–12th centuries (Dorokhi V, kurgan 4; Staroye Selo, kurgan 2; Saki, kurgan 60).
This means that none of the satisfactorily documented burials in the kurgans mentioned above may be called Scandinavian. The Scandinavian belonging may be only supposed for some hypothetical burials in Toropets (on Lake Zelikovye) and Klimenki, as well as for certain disturbed kurgans at Usvyaty II and poorly documented mounds in Kolenidovo and Gorodok. In other words, the Scandinavian provenance may be supposed for not more than two buried males (Usvyaty II and Kolenidovo kurgan 3) and four–five females (Toropets-Zelikovye; Klimenki; Kolenidovo, kurgan 2; Gorodok; possibly, Usvyaty II) who died in the 9th-10th centuries. We may be certain of the Scandinavian provenance only of the woman who owned the “magic baton” found at Lake Zelikovye.
At the same time, it is exactly the evidence from burials that attests to the beginning of the penetration of Scandinavians into the Upper Dvina region. The use of jewellery of North European circle by the local population in funerary rites seemingly implies that these objects were used also in usual life for their direct purpose, i.e. as parts of a festive attire. This situation hardly would have taken place if the Scandinavian objects were got by inhabitants of the Upper Dvina area at “third hand” (this is especially true of such peculiar pieces of jewellery as equal-arm fibulae). In the latter case, these would have been used as scrap for manufacturing traditional adornments. It seems that bearers of Scandinavian fibulae appeared themselves at some time before the eyes of the aboriginals. In general, the considerable number of North European finds and their deep integration, rather paradoxical, into the local culture suggest the possibility of ancient migrations of some not numerous Scandinavian population to certain rural regions on the upper Dvina and upper Dnieper rivers. Settlements of these immigrants may still await their discovery.
Originally, Scandinavians arrived to the upper Dvina region probably via the Volkhov River and Lake Ilmen areas. As concerns the initial causes of these movements, there are grounds to accept the hypothesis viewing the northern section of the “Route from the Varangians to the Greeks” (between Lake Ilmen and the Dnieper) as one of the branches of the “Silver Road” of the 9th century via which Kufic coins came to Northern Europe (Леонтьев 1986: 6-8). Striving for control over that route was probably one of the main reasons that brought the Norsemen to the upper reaches of the Western Dvina and further on to the upper reaches of the Dnieper.
Finds of Scandinavian types of the 10th–11th centuries from the territories mentioned above must have been linked already with the next stage in the history of the upper Dvina area. The presence here of the Scandinavians during the period was defined by two factors: stabilization of the route from the Baltic coasts to the Kievan regions on the Dnieper and the establishment of the military and economic interests of Kievan Rus and the Novgorod and Polotsk lands. These interests demanded quartering of Varangian garrisons in the key points of the routes. As to such large administrative centres of the 10th-11th centuries as Usvyat, Vitebsk and Gorodok on the Lovat, which have yielded a significant number of finds of the North European appearance, it is quite probable that the Scandinavians were present there as representatives of the Prince’s administration and members of the military retinues. The presence of the Norsemen in the Polotsk and Vitebsk areas on the Dvina during the period is attested by written sources. At the same time, the predominant mass of inhabitants of these early urban settlements was undoubtedly composed by the local population.
Гаврилюк О. М., М. О. Ягодинская. Древнерусские предметы христианского культа с Западной Подолии и Юго-Западной Волыни
Территория Западной Подолии и Юго-Западной Волыни, административно объединенная теперь в Тернопольскую область Украины, была густо заселена в период существования Древнерусского государства. На этой территории была собрана в разное время значительная коллекция предметов христианского культа: 62 энколпиона, 80 нательных крестиков, 14 нагрудных иконок, 2 заготовки под иконки, 3 разделителя для цепей лампад и кадил, одна деталь от хороса.
Среди энколпионов выделяется несколько групп как по технике изготовления, по сюжету и композиции изображений, так и по форме окончаний перекладин и размерам. По технике изготовления они подразделяются на рельефные, рельефно-инкрустированнные и инкрустированные. По сюжету они делятся следующим образом: кресты с изображениями Бориса и Глеба – 2 экз.; Распятие и Богоматерь Оранта – 6 экз.; Распятие и Богоматерь с младенцем – 2 экз.; Распятие и святой Николай – 1 экз.; Христос Пантократор и Богоматерь – 1 экз.; Христос Пантократор и святой Николай – 1 экз.; одностороннний энколпион с Распятием – 1 экз.; крест-заготовка для украшения эмалями – 1 экз. (рис. 2, 3, 4). Все вышеперечисленные энколпионы относятся к группе рельефных крестов (1 группа). Ко второй группе (рельефно-инкрустированных) крестов относятся энколпионы с Распятием на лицевой створке и неравноконечным крестом с сиянием на оборотной створке (2 экз.) (рис. 5). К третьей группе (инкрустированных крестов) относятся такие энколпионы: крест с изображением неравноконечного креста с сиянием и святыми в медальонах (1 экз.); миниатюрные кресты с изображением креста с обеих сторон (5 экз.) (рис. 5).
Нательные кресты делятся на отдельные группы по материалу изготовления: металлические, каменные, янтарные, а также крестики, сделанные из других материалов. Металлические крестики изготовлялись в двусторонних литейных формах из бронзы или белого металла (серебро, свинцово-оловянистые сплавы). Некоторые крестики украшены эмалью (рис. 6).
Другую группу составляют крестики, сделанные из разных пород поделочного камня: розового и серого шифера (пирофиллита), серпентина, липарита, черного сланца и других, составляют следующую группу нательных крестиков. По форме они делятся на две большие группы: 1) крестики с перекладинами прямоугольными в сечении; 2) крестики с круглым сечением перекладин (рис. 7). Абсолютно все крестики неравносторонние, но выделяются отдельные из них, по размерам приближающиеся к равносторонним. Отдельной группой стоят большие кресты с прямоугольным сечением и орнаментацией на лицевой стороне (рис. 7, 16, 17). Все янтарные крестики данной коллекции в основном происходят из древнерусского городища Бозок (с. Городище), за исключением одного, найденного в подплитовом погребении ХІІ-ХІІІ вв. (с. Лозовая, уроч. Под ланом). Они сделаны из темно-красного янтаря, который добывается на месторождении янтаря на Волыни (с. Клевань Ровенской области) (рис. 8: 1–4). Все рассматриваемые крестики отличаются своими миниатюрными размерами. Коллекция включает несколько крестиков, сделанных из перламутра и из легкого органического материала коричневого цвета (рис. 8: 5–7).
Все представленные нательные иконки сделаны из бронзы и белого металла. По форме они делятся на прямоугольные и круглые монетовидные. На них изображены Богоматерь Оранты, Богоматери Знамение, Иисус Христос, а также процветший крест (рис. 9: 2-11). Особый интерес представляют крестик-иконка с изображением святых центре (рис. 9: 1) и на концах перекладин и две заготовки для иконок (рис. 9: 12, 13).
К предметам христианского культа относятся разделители цепей от кадил и чашечка-дискос от хороса (рис. 10: 1–2).
В представленной статье рассмотрена большая коллекция предметов христианского культа с городищ и селищ Западной Подолии и Юго-Западной Волыни, которая демонстрирует цельность материальной и духовной культуры разных частей Древнерусского государства, взаимосвязь и взаимообогащение центра державы и окраинных княжеств, между которыми существовала активная торговля культовыми предметами. В памятниках Западной Подолии и Юго-Западной Волыни наряду с широко известными типами крестов выявлены кресты, не имеющие себе аналогов среди произведений мелкой металлопластики Древней Руси, и они впервые вводятся в научный оборот.
O. N. Havrylyuk, M. A. Yahodynskaya Ancient Russian Objects of the Christian Cult from Western Podillya and South-Western Volyn
Many of the ancient Russian objects connected with the Christian cult, now preserved in the Ternopil Regional Museum and at its branches in Borshchiv, Zalishchyky, and Kremenets, or in private collections, came from western Podillya and south-western Volyn (two districts now united into the Ternopil Region). This paper presents a description of 23 encolpions, several crosses worn under clothing, 13 icons worn under clothing and 2 unfinished items, 2 spacers of suspension chains, and 1 part of a choros.
Encolpions are subdivided into relief ones, relief inlaid encolpions and flat inlaid encolpions. According to the subject represented, they are divided into: crosses with Saints Boris and Gleb – 2 items; a crucifix and the Virgin Oranta – 6; a crucifix and the Blessed Virgin with the Baby in arms – 2; a crucifix and Saint Nicholas – 1; Christ-Pantocrator and Saint Nicholas – 1; Christ-Pantocrator and the Virgin – 1; one-sided encolpion with a crucifix – 1; unfinished cross prepared for enamelling – 1 (Figs. 2; 3; 4; 5: 1). All of the encolpions mentioned above belong to the group of the relief crosses (group 1). The second group (relief inlaid encolpions) have a crucifix on the obverse and an irregular cross inside an aureole of radiance on the reverse (2 items) (Fig. 5: 2, 4). The third group (flat inlaid encolpions) includes an encolpion with an irregular cross inside an aureole of radiance and different saints in medallions (1); miniature encolpions with a cross both on the obverse and on the reverse (5) (Figs. 5–3, 5–9).
Small crosses worn under clothing are subdivided into several groups depending on the material they are made from: metal, stone, amber, etc. Metal crosses were cast in double-sided moulds from bronze or white metal (silver or pewter). Some are enamelled (Fig. 6).
Another group of personal crosses is made from pink or grey slate, serpentine, shale, or some other stones. These crosses include two large subgroups: crosses with cross-beams of rectangular section and those with cross-beams of round section (Fig. 7). In addition, there is a group of rather large crosses of rectangular section with ornamentation on the obverse (Fig. 7: 16, 17). All the amber crosses from the collection under consideration were found on the territory of the early Russian fortified settlement of Bozok (now the village of Horodyshche, Ternopil Region). They are made from dark-red Volyn amber (Figs. 8: 1–4). The collection includes a few crosses made from mother-of-pearl and some brown organic materials (Fig. 8: 5–7).
The icons worn under clothing are made of bronze or white metal and include rectangular and round coin-shaped items. They bear images of the Virgin Oranta, the Sign of the Virgin and little Christ, Christ and the motif of the “Flowering Cross” (Fig. 9: 2–11). Of special interest are also an icon-cross with images of Saints (Fig. 9: 1) and two unfinished icons (Fig. 9: 12, 13).
The Christian cult objects from the collection include spacers from suspension chains of censers and church-lamps and a small cup-discos from a choros (Fig. 10: 1–3).
The objects of the Christian cult from ancient Russian settlements of western Podillya and south-western Volyn described in this paper demonstrate the unity of the material and spiritual culture of different regions in ancient Rus and continuous communications between the metropolis and outlying districts of the state. Besides the well-known types of early crosses from western Podillya and south-western Volyn, certain unique masterpieces made from non-ferrous metals have been discovered in the collection and are first published here.
Пуцко В. Г. Об одной группе каменных икон Спаса на престоле
В статье рассматриваются три каменные резные иконки с изображением тронного Христа Пантократора с парящими ангелами и предстоящими святыми, состав последних, судя по всему, не являлся стабильным. Одна из иконок шиферная в золотой оправе, украшенной камнями, с серебряным оглавием. В настоящее время хранится в Музее Московского Кремля (Инв. № 4319; рис. 1: 1). Это произведение – образец новгородской каменной пластики (Рындина 1978: 53, рис. 33, 34) середины XIV в. или конца XIV – начала XV вв., возможно, принадлежавшее вяземским князьям (Николаева 1983: 33, 100–101, табл. 36: 3, № 206). На лицевой стороне иконки имеется рельефное изображение Спаса на престоле с двумя полуфигурами ангелов в верхней части композиции и предстоящими в молении в рост Симеоном и Иулианией. На оборотной стороне изображены стоящие апостол Петр, св. Никола и мученик Никита.
Фрагмент второй каменной резной иконки был найден в конце XIX в. в Ростове близ Лазаревской церкви (рис. 1: 3). По стилевому и иконографическому оформлению образок вполне органично вписывается в группу новгородских образцов рубежа XIII–XIV вв. (Пуцко 1997: 95–102). На одной стороне иконки представлен тронный Христос Пантократор с облачным ангелом и предстоящим преподобным, на другой – Гроб Господен, с фигурами воинов, жен-мироносиц и парящих ангелов, в соответствии с ранней новгородской иконографической традицией.
Рассмотренная иконографическая формула лишь с некоторыми отличиями повторена в резьбе еще одной двусторонней иконки из коричневого сланца. Образок происходит из частной коллекции и датируется XIV в. На лицевой стороне находилось изображение Спаса на престоле с высокой спинкой, в верхней части полуфигуры летящих ангелов с крестами в руках, в нижней – сильно сглаженные изображения предстоящих (рис. 1: 2). На оборотной стороне – изображения двух стоящих преподобных.
Описанные нами три каменные иконки открывают малоизученную страницу новгородской средневековой пластики. В иконографическом стиле этих образков отразилось художественное течение, которое возникло в Византии в результате крестовых походов и проявилось в полной мере как в иконописи, так и в скульптуре (Weitzmann 1966: 49-83; 1975: 53–93; Demus 1960: 123–190; 1970). С некоторым опозданием отголоски этих явлений достигают Руси. Не стоит удивляться тому, что в византийскую художественную канву вплетаются отдельные элементы западной иконографии (Pucko 1979: 327–338; Пуцко 1981: 953–972). В сущности то же прослеживается и в искусстве каменной резьбы малых форм, органически связанном с иконописанием, но имевшем свою специфику и свои выразительные средства.
V. G. Putsko. A Group of Stone Icons of the Throned Saviour
The purpose of this article is to describe three small carved stone icons representing Christ the Pantocrator with hovering angels and standing saints. The list of the latter, it seems, has been varied. One of the icons was of slate in a golden mounting decorated with stones and with a silver top. It is preserved now in the Moscow Kremlin Museum (Inv. no. 4319; Fig. 1: 1). This work is an example of the Novgorodian stone plastic arts (Рындина 1978: 53, Fig. 33, 34) of the mid-14th – beginning of the 15th century; probably it belonged to the Vyazma princes (Николаева 1983: 33, 100-101, Pl. 36: 3, no. 206). On the face side of the icon there is a relief representation of the throned Saviour with two figures of angels rendered waist-high in the upper part of the composition and Simeon and Juliania in front standing to full height in prayers. On the reverse, standing Peter the Apostle, St. Nicholas and Nikita the Martyr are represented.
A fragment of the second carved stone icon was found in the end of the 19th century near the Lazar Church in Rostov (Fig. 1: 3). In terms of its style and iconography this amulet matches quite organically the group of Novgorodian examples of the turn of the 13th and 14th centuries (Пуцко 1997: 95-102). On one side of the icon, throned Christ the Pantocrator is represented along with an angel in clouds and a saint standing in front. On the other side, in accordance with the early Novgorod iconographic tradition there is the Holy Sepulchre with figures of warriors, the Peace-Making Wives and hovering angels.
The iconographic formula described above is repeated with just minor differences in another small double-sided carved icon made of brown slate. This amulet comes from a private collection and is dated to the 14th century. On the face side there is a representation of the Saviour in a throne with a high back; in the upper part there are waist-high figures of flying angels holding a cross, in the lower one – strongly worn figures of saints standing in front (Fig. 1: 2). On the reverse, there are images of two standing saints.
The three stone icons described above open a poorly studied so far page of the medieval Novgorod plastic arts. The iconographic style of these amulets has reflected the artistic trend which sprang up in Byzantium as a result of the crusades and came to be the most distinctive both in icon-painting and sculpture (Weitzmann 1966: 49-83; 1975: 53-93; Demus 1960: 123-190; 1970). With a small retardation, echoes of these phenomena reached Rus. It is not worth wondering that also certain elements of the Western iconography have been interlaced into the Byzantine artistic groundwork (Pucko 1979: 327-338; Пуцко 1981: 953-972). Virtually, we may trace the same in the small arts of stone-carving which were organically linked with icon-painting although possessing their specific expressive means.
Мурашкин А. И. Археологические памятники Кольского полуострова и проблема происхождения саамов
Изучение саамских древностей активно ведется в последние тридцать лет в Норвегии и Швеции. За это время, в результате пересмотра материалов из старых раскопок и проведения новых полевых исследований, был выделен специфический саамский комплекс артефактов и разработана их хронология.
В то же время в СССР и России до 1990-х годов эта категория памятников не привлекала внимания археологов. Однако на Кольском полуострове было зафиксировано несколько десятков саамских средневековых поселений. Больше всего их найдено на северном побережье в районе Нокуевского залива, на Рыбачьем полуострове и р. Патсойоки. Помимо этого два возможно саамских могильника XII–XIII в. в. и три поселения XV–XVIII в. в. были частично раскопаны.
Исследование средневековых и более ранних памятников саамов может принести данные касающиеся этногенеза саамов и ранней этнической истории всей Северной Фенноскандии, помочь в решении вопросов связанных со средневековой колонизацией этих районов русскими и скандинавами и многих других.
A. I. Murashkin. Archaeological sites of Kola peninsula and the problem of Saami ethnogenesis
Extensive archaeological investigations of medieval Saami antiquities are conducted by Norwegian and Sweden archaeologists in last 30 years. In the course of this works specific complex of Saami artefacts and their relative chronology were established.
In Russia until 1990-es these sites were not in sphere of archaeological interests, but some dozens of them were founded. Medieval Saami sites situated as in coastal as in inner part of Kola peninsula, but greater amount of them were founded on Northern coast in Nokuev bay, on Rybachy peninsula and on Patsoyoki-river. Two probably Saami cemeteries dated from XII-XIII centuries and tree settlement dated from XV–XVIII centuries were partly excavated in different parts of the region.
Extensive studying of these kind of sites may yield extremely interesting results and new evidences about time and space of Saami ethnogenesis, character of relationship between Saami and newcomers (Slavs and Scandinavians) and other.
Абдуразаков А., Б. Болиев. Исследование химического состава строительных и облицовочных материалов архитектурных материалов Узбекистана
Природно-климатические условия на обширной территории Средней Азии весьма разнообразны, специфичны в отдельных зонах и своеобразно влияют на строительные материалы памятников. Древним строителям приходилось решать очень сложные задачи по обеспечению их сохранности в резко меняющихся климатических условиях. Данная проблема находится в прямой зависимости от химического состава и технологии строительных и облицовочных материалов, использованных при возведении архитектурных памятников.
В этой связи важное значение приобретает комплексное химико-технологическое изучение образцов керамики и глазурей, взятых с конкретных памятников. Такие исследования позволяют выявить развитие производства облицовочных материалов и проследить истоки отдельных рецептов глазурей и их основ. Результаты исследований образцов как из археологических раскопок, так и архитектурных памятников позволяют изучить также и уровень развития химических, технологических, биологических, геологических и других отраслей знаний у отдельных народов в определенные исторические периоды, их вклад в соответствующие разделы науки и техники.
Для раскрытия технологии и рецептуры средневековых строительных материалов проводился химический анализ местных минеральных ресурсов, находящихся вблизи архитектурных памятников. Полученные в ходе исследований химико-аналитические данные помогут восстановить утраченные рецептуры древних кашинных основ и глазурей.
A. A. Abdurazakov, B. Boliev. Investigations of the Chemical Composition of Building and Decorative Materials in Uzbekistan
The natural and climatic conditions vary considerably throughout the vast territory of Central Asia. They are specific in particular zones exerting a peculiar influence on building materials at various sites. Ancient builders had to solve very complicated problems in order to provide their creations with survivability under the abruptly changing climatic conditions. This task depended directly on the chemical composition and technology of building and facing materials used during construction of architectural monuments.
In this connection, of considerable importance are multi-disciplinary chemical and technological studies of samples of ceramics and glazes taken from particular sites. These investigations enable us to supplement our knowledge about the development of production of facing materials and to trace the origins of particular formulae of glazes and their substrata. In addition, the results of the studies of samples obtained both from archaeological excavations and architectural monuments give us the possibility to make ideas on the advances in chemical, technological, biological, geological etc. spheres of knowledge of particular peoples in given historical periods and the contributions of these peoples into the respective branches of science and engineering.
This paper presents the results of chemical analyses of local mineral resources located near different architectural sites. These analyses were conducted in order to shed light over the technology and composition of medieval building materials. The chemical data obtained seem promising to be of help in reconstruction of the lost formulae of ancient Kashan backing substrata and glazes.
Кубло Э. К., Л. Л. Леонтьев, М. И. Колосова, Л. В. Кокуца. Изучение свойств археологической древесины и проблемы консервации
Основные свойства. 1. Сочетание сильной деструкции (до 60–70% потери массы у многих пород) с сохранением общей структуры древесины в образцах археологической древесины новгородских раскопок говорит о том, что: а) не произошло микогенного разрушения древесины (вероятное исключение – заболонь дуба); б) не произошло насыщения древесины какими-либо иными (минеральными) веществами.
2. Исходя из примерного химического состава древесины (клеточных стенок): целлюлозы 35–50%, гемицеллюлозы и лигнина по 20–30%, особенностей химических свойств этих веществ и степени деструкции древесины 60–70% совершенно очевидно предположить полное разрушение и вывод из древесины гемицеллюлоз и частичное (часто значительное) разрушение целлюлозы и лигнина. Причем разрушение целлюлозы, очевидно, более сильное, за счет большей ее доли во внутренних слоях клеточной стенки.
3. При деструкции древесины около 80% происходит выравнивание величины изменения размеров за счет усушки в радиальном, тангенциальном и продольном направлении.
4. Увеличение продольной усушки и усадки у лиственных рассеяннососудистых пород при значительной степени деструкции позволяет предположить, что в первую очередь происходит деструкция внутренних слоев клеточных стенок (W. S3 и S2). Причем средний слой вторичной оболочки S2 подвержен очень сильному разрушению.
5. Неравномерность усадки и полное изменение размеров сохраняется и при очень сильной деструкции за счет клеточного строения; смятие полых волокон (трубок) в поперечном направлении значительно легче, чем в продольном.
6. У сильно деструктированной древесины клеточные стенки ослаблены. Поэтому при высыхании такой древесины не возникает больших внутренних напряжений в древесине, а усадка (смятие) происходит за счет "слабости" самих клеточных стенок (в отличие от смятия клеток нормальной древесины, происходящих за счет внутренних напряжений).
7. Отсутствие внутренних напряжений облегчает процесс сохранения древесины без появления трещин усушки.
8. Нарушение целостности предмета происходит при сочетании небольшой степени деструкции с относительно высокой плотностью древесины. За счет неравномерности усушки и относительной жесткости образца в древесине возникают внутренние напряжения; прочность же в поперечных направлениях даже у нормальной древесины невысокая, а при любой деструкции она становится еще меньше. В результате возникают различные разрывы древесины. Такие явления характерны для образцов древесины дуба.
Консервация. Опробована методика перевода мокрой археологической древесины в сухое состояние вымораживанием, когда из древесины испаряется лед, минуя жидкую фазу. Процесс происходит в вакуумной камере при отрицательных температурах. Предварительно образцы проходят процесс пропитки в полиэтиленгликолях, имеющих различные характеристики. При выборе методики консервации нужен дифференцированный подход, где должны учитываться такие факторы, как порода древесины, степень деструкции, плотность, а также форма и объем предмета.
L. L. Leont’ev, E. K. Kublo, M. I. Kolosova, L.V. Kokutsa. Investigation of Properties of Archaeological Wood and Problems of Conservation
The main properties. 1. The combination of heavy destruction (the mass loss up to 60–70 percent in many wood species) with preservation of the general structure of the wood in samples of archaeological wood from excavations in Novgorod suggests that: a) this wood has not been subjected to any mycogeneous destruction (with a possible exception of oak alburnum), and b) the wood has not been saturated with any other (mineral) substances.
2. On the basis of the approximate chemical composition of wood (cellular walls): 35–50% cellulose, 20–30% of each hemicellulose and lignin, as well as the peculiar chemical properties of these substances and the extent of destruction of wood equal to 60–70%, it is quite natural to suppose the complete destruction and withdrawal of hemicelluloses from the wood and partial (often considerable) destruction of cellulose and lignin, that of cellulose being more extensive due to its higher contents in the inner layers of the cellular walls.
3. When destruction of wood reaches 80%, levelling of the dimensional changes occurs owing to shrinkage in the radial, tangential and longitudinal directions.
4. The increase of longitudinal drying and shrinkage in deciduous vaso-dispersed species at considerable degrees of destruction suggests that the destruction of the inner layers of cellular walls (W. S3 and S2) first takes place. Moreover, the middle layer of the secondary envelope S2 is subjected to a very strong destruction.
5. The non-uniform shrinkage and complete change of the dimensions continues also during very extensive destruction due to the cellular structure; crumpling of hollow fibres (pipes) in the transversal direction occurs considerably easier than in the longitudinal one.
6. In strongly destructed wood, cellular walls are weakened. As a result, during drying no considerable inner tensions occur in such wood, the shrinkage (crumpling) taking place owing to the “weakness” of the cellular walls themselves (in contrast to the crumpling of normal wood resulting of inner tensions).
7. The absence of inner tensions is propitiate to the process of preservation of wood without the formation of shrinkage fissures.
8. Disruption of an object takes place when a small extent of destruction is combined with a relatively high density of the wood. Owing to irregularity of the shrinkage and relative rigidity of the sample, inner tensions appear in the wood, the transversal strength, which even in normal wood is fairly low, decreasing still more during any destruction. As a result, diverse disruptions of the wood occur. Such effects are characteristic of samples of oak.
Conservation. We have tested the method of drying humid archaeological wood by freezing it so that ice evaporates from the sample omitting the liquid phase. The process was conducted in a vacuum chamber under negative temperatures. Preliminarily, the samples were impregnated with polyethylene glycols having different characteristics. When selecting a method of conservation, a differentiated approach is necessary with taking into account such factors as the species of the wood, extent of its destruction and density, as well as the shape and volume of the object to be conserved.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ
Массон В. М. Древние общества степей Евразии и структура мировой истории
Многотысячелетняя история зоны евразийских степей, в которой отмечено прогрессивное развитие со своими особенностями и достижениями, имевшими немаловажное значение для всемирной истории и культуры, оставалась за пределами генерализированных оценок.
В настоящее время, по имеющимся материалам и их разработкам, намечается, по меньшей мере, три большие эпохи, которые развивались по мере сложения архаических структур древних обществ. Первая эпоха – ранних комплексных обществ приходится, в основном, на бронзовый век по археологической систематике. Достигнутый уровень общественного развития и организации открывал возможности формирования крупных общественных структур, которые известны по археологическим материалам. Уже проявляется свойственный народам степной зоны динамизм и инициативная пассионарность. Начинает формироваться особое значение образа коня как интеллектуального, а соответственно, и художественного символа степных обществ.
Вторая эпоха, известная по археологической систематике как эпоха ранних кочевников, социо-политически может быть охарактеризована как эпоха военной аристократической государственности. Переход к кочевничеству, в числе прочих явлений, способствовал качественному скачку активной военной сферы, что являлось одним из важных стимулов выделения страты супер-лидеров или царей по терминологии древнегреческих источников.
Наконец третья эпоха – это время кочевых империй, эталонным примером которых была империя хунну. Пиком этой системы следует считать монгольскую супер-империю Чингиз-хана. После распада ее политических наследников, по существу, начинается возвратное движение, столь характерное для процесса ритмов культурогенеза, да и политогенеза. Политические структуры, наблюдаемые в степной зоне в позднесредневековую эпоху, по существу, недалеки от эпохи военно-аристократической государственности.
Исторический вклад во всемирный процесс со стороны степной зоны материально связан с образом коня. Именно степи стимулировали создание в системе вооруженных сил и военной стратегии кавалерийских начал. С образом коня были связаны многие идеологические и художественные новации.
V. M. Masson. Ancient Societies of the Steppes of Eurasia and the Structure of the World History
The millennial history of the zone of Eurasian steppes, which reflects a progressive development with its peculiarities and advancements of no slight importance for the history and culture of the entire World, has long been remaining beyond any attempts of generalizing evaluations.
At present, on the basis of the evidence available and its conceptualization, we may tentatively discriminate at least three vast epochs which developed depending on the formation of archaic structures in ancient societies. The first epoch was that of the early complex societies tied mainly with the Bronze Age according to the archaeological systematization. The attained level of the social development and organization opened the possibilities of formation of large social structures attested by the archaeological evidence. It is as early as this period that the dynamism and initiative passionarism peculiar to peoples of the steppe zone became manifest. The concept of horse as an intellectual and, respectively, an artistic symbol of steppe communities began to acquire its special significance.
The second epoch, known according to the archaeological systematization as that of early nomads, in terms of socio-politics may be described as the epoch of military aristocratic states. The adoption of nomadism, along with certain other phenomena, was beneficial for the qualitative leap of the active military sphere as one of the important incentives for the segregation of the strata of super-leaders or kings in the terminology of ancient Greek sources.
Finally, the third epoch was the period of nomadic empires of which the typical example was the empire of Hönnö. The Mongol super-empire of Chinggis Khan must be regarded as the peak of that system. After the ruin of its political successors, the recurrent movement began which is so characteristic of the rhythms of cultural genesis, and perhaps of political genesis too. The political structures found in the steppe zone during the late Middle Ages were in fact fairly close to those of the epoch of military-aristocratic states.
The historical contribution to the world-wide process on the part of the steppe zone is connected materially with the concept of horse. It was the steppe that stimulated the creation of cavalry elements in the system of armed forces and war strategy. Many ideological and artistic innovations were tied with the concept of horse.
Корниенко Т. В. К проблеме культового строительства в Северной Месопотамии в эпоху докерамического неолита
Исследования выдающихся памятников докерамического неолита (IX–VII тыс. до н.э.) на территории Северной Сирии, Ирака и, особенно, Юго-Восточной Турции предоставили выразительные свидетельства о функционировании в тот период общественных зданий специально культового назначения. В этом смысле весьма информативны опубликованные отчеты о раскопках Халлан Чеми (Rosenberg et al 1998; Rosenberg 1999; Rosenberg, Redding 2000), Жерф эль Ахмара (Stordeur 1998, 1999; Stordeur et al 2001), Невали Чори (Hauptmann 1993, 1999), Чейеню Тепеси (Çambel 1985; Schirmer 1983, 1990; Özdoğan, Özdoğan 1990; Özdoğan 1999;) и Гебекли Тепе (Schmidt 1998, 2001; Hauptmann 1999) [На русском языке подробный обзор данных свидетельств представлен в работах: Корниенко 2002, 2004]. Сравнительный анализ этих материалов дает возможность проследить линию формирования общих принципов возведения культовых сооружений на ранненеолитических поселениях Северной Месопотамии, выявить индивидуальные особенности в строительстве и оформлении таких построек.
Замеченные между ними отличия связаны, очевидно, с естественным проявлением местной специфики, как в сакральной, так и в архитектурной сферах, а, кроме того, с известной разницей времени функционирования данных комплексов. Вместе с тем, на переходном PPNA/PPNB этапе и собственно в период PPNB формируются некоторые общие принципы строительства и оформления общественных построек культового назначения:
- расположение в особом районе поселения;
- преемственность в выборе места для строительства;
- специальная подготовка этого места;
- углубленная в землю конструкция и ширококомнатная планировка;
- включение архитектурных и скульптурных элементов древнейших построек в последующие;
- наличие массивной, каменной скамьи, примыкающей к внутренней стене или стенам помещения;
- трудоемкая (для Чейеню и Невали Чори мозаичная или плиточная отделка полов);
- сохранность следов цветной штукатурки, выгравированных рисунков, рельефов на внутренней поверхности стен;
- установление монолитных стел, пилястр, декорированных столбов, скульптурных объектов внутри построек;
- отсутствие следов домашней жизнедеятельности, свидетельства проведения различных обрядовых церемоний
Планировка, иногда другие строительные элементы древнейших культовых построек демонстрируют их генетическую связь с обликом жилых домов, причем во всех случаях явно прослеживается связь с жилищами архаичного вида (круглоплановыми и углубленными в землю домами PPNA времени). Как известно, сохранение и намеренная консервация традиции всегда являлось характерной чертой религиозного сознания и до сих пор служит одним из способов маркировки сакрального пространства.
В целом имеющиеся материалы Северного Двуречья (пока не многочисленные, но весьма выразительные) показывают, что уже на ранненеолитическом этапе развития верхнемесопотамского общества религиозная архитектура выделяется как особая область строительной деятельности, более того, достигает определенной степени стандартизации. Помимо этого, анализ источников дает представление о том, что в ранненеолитический период на территории Верхней Месопотамии и сопредельных с ней регионов, вероятно, функционировало несколько видов сакральных мест и строений. В основу их предварительной классификации нами были положены степень общественной значимости культовых центров, особенности их оформления и расположения.
К первой группе рассматриваемых объектов отнесены родовые и/или семейные святилища, известные на территории Ближнего Востока начиная с протонеолитической эпохи. Такие постройки не были четко выделены из общего поселенческого контекста и часто совмещались с жилыми помещениями (Немрик IX, Гермез Дере).
Среди древнейших общественных сооружений, оформленных соответствующим образом, и, стационарно функционировавших на первых долговременных поселениях в качестве мест для проведения коллективных собраний с осуществлением значимых для всей общины обрядовых действий, выделяются площади, о наличии которых свидетельствуют представленные артефакты Халлан Чеми и Чейеню Тепеси.
Совмещение символически защищенного (сакрального) и значимого в хозяйственном отношении для коллектива общинников пространства (производственных участков; мест обмена, хранения и распределения продуктов) было зафиксировано в особых постройках при исследовании Халлан Чеми, Жерф эль Ахмара (ЕА 7, ЕА 30) и Мурейбита.
Убедительные археологические данные указывают и на существование уже в докерамическом неолите специальных общественных зданий определенно культового назначения. В частности, Дом Черепов Чейеню Тепеси, выполняя функции общинного кладбища, являлся, кроме того, местом отправления особых коллективных церемоний, очевидно, направленных на оказание помощи родственникам при переходе в мир иной, а также на сохранение связей, сакрального единства, между живыми и умершими общинниками.
Материалы других «уникальных построек» Чейеню Тепеси, а также ЕА 53, ЕА 100 Жерф эль Ахмара и Строений II, III Невали Чори свидетельствуют о функционировании на этих поселениях общественных зданий культового назначения несколько иного характера, напрямую не связанных с погребальным обрядом [Для территории Леванта определенное сходство с ними проявляют неординарные постройки Айн Гхасаля (Rollefson 1998; 2000) и Бейды (Kirkbride 1966)]. Возведенные на границе поселений неординарные строения названных памятников располагались между жилым и «неосвоенным» пространством, в точке соприкосновения данных зон, что символически, очевидно, должно было отражать их значение в качестве связующих сакральных центров между коллективом общинников, проживающим на поселении и окружающим миром. Исходя из полученных археологическим путем топографических и некоторых других сведений, а также, опираясь на общие историко-этнографические знания, можно предположить, что «хозяева» протохрамов имели особую «генетическую» связь, как с районом расположения поселения, так и с поколениями людей, долгое время там проживающих. В данном случае культ предков был совмещен с поклонением силам природы, духам конкретной местности и фиксируется уже на достаточно высоком уровне своего развития.
Наконец, открытие по всей поверхности Гебекли Тепе большого количества свидетельств выдающихся произведений древнейшего искусства, в комплексе отражающих существование сложных систем ритуального оформления регулярно проводимых здесь обрядов, послужило основанием для возникновения гипотезы об особой роли этого поселения в качестве религиозного центра для жителей округи в ранненеолитическую эпоху. Такое предположение кажется вполне оправданным на фоне полученных за последнее время данных о периоде PPN, тем не менее, археологически оно пока не подтверждено исследованиями близлежащих хронологически сопоставимых памятников.
В заключение следует отметить, что намеченные типы культовых сооружений в силу ограниченности имеющихся источников достаточно условны, между ними мы не делаем четких границ. Однако проведенный анализ в какой-то мере показывает возможности того коллектива людей, который возводил эти постройки и поклонялся божествам, населяющим их, – отдельных семей или родов, целой общины и, вероятно, более широкого круга населения. Невозможно провести четкую классификацию и потому, что в то время, как представляется, функционировали различные промежуточные типы и разновидности культовых строений, которые постепенно эволюционировали по своей общественной значимости, атрибутике, характеру совершаемых ритуалов.
T. V. Kornienko. Cult Buildings in Northern Mesopotamia in the Pre-Ceramic Neolithic Epoch
Excavations at major sites of the pre-ceramic Neolithic period (9th–7th Mil. BC) on the territories of northern Syria, Iraq and, most importantly south-eastern Turkey, yielded expressive evidence on functioning of public buildings constructed specially for cult purposes. Very informative in this respect are the published reports on excavations in Hallan Çemi (Rosenberg et al. 1998; Rosenberg 1999; Rosenberg, Redding 2000), Jerf al Ahmar (Stordeur 1998, 1999; Stordeur et al. 2001), Nevali Çori (Hauptmann 1993, 1999), Çeyönö-Tepesi (Çambel 1985; Schirmer 1983, 1990; Özdoğan, Özdoğan 1990; Özdoğan 1999), and Göbekli-Tepe (Schmidt 1998, 2001; Hauptmann 1999) [In Russian, a detailed review of this evidence is presented in: Корниенко 2002, 2004]. A comparative analysis of these materials allows us to trace the formation of the general principles of the erection of cult buildings at early Neolithic settlements of northern Mesopotamia and to reveal individual peculiarities in the construction and decoration of these structures.
Certain differences noted between them are related obviously to natural effects of the local specifics both in the sacral and architectural spheres, as well as to the differing time of functioning of the complexes under consideration. Nevertheless, at the transitional PPNA/PPNB stage and during the period of PPNB itself, some general principles of construction and decoration of public buildings for religious purposes were established:
- their disposition in a special area of the settlement;
- continuity of the choice of the site for construction;
- special preparation of construction sites;
- sinking of the buildings partly into the earth and their layout with large rooms;
- inclusion of architectural and sculptural elements of earlier buildings into newly built ones;
- the presence of a massive stone bench adjoining the inner wall of the building or walls of the rooms;
- a laborious working of the floors (with mosaics or slabs in Çeyenu and Nevali Çori);
- traces of coloured stucco, engraved patterns and reliefs preserved on the inside surfaces of the walls;
- installation of monolithic steles, pilasters, decorated pillars and sculptures inside the buildings;
- the absence of any traces of domestic household and various evidence of performing ritual ceremonies.
The layout, occasionally also some other construction elements of the cult buildings, demonstrate their genetic links with the appearance of dwelling houses, and in each case this concerned dwellings of archaic types (houses of the PPNA period of round plan and dug into the earth). As is well known, preservation and intentional conservation of a tradition always have been a characteristic feature of religious consciousness serving even nowadays as a way to mark some sacral sphere.
In general, materials (still not numerous but very expressive) from the northern part of the land between the Tigris and Euphrates rivers indicate that already at the early Neolithic stage of the Mesopotamian society, the religious architecture was distinguished as a special sphere of building activities. Moreover, it reached a certain grade of standardization. In addition, an analysis of sources suggests that in the territory of Upper Mesopotamia and adjoining regions, probably several types of sacral sites and buildings were functioning in the early Neolithic period. We base their tentative classification on the extent of the public significance of the cult centres and peculiarities of their disposition and decoration.
Tribal and/or familial sanctuaries known in the Near East since the proto-Neolithic epoch are attributed to the first group of objects under consideration. These structures were not clearly distinguished from the general context of a settlement, being often combined into one with dwelling rooms (Nemrik IX, Germez Dere).
As indicated by artefacts from Hallan Çemi and Çeyönö-Tepesi, certain areas are distinguishable among the earliest public edifices at the first permanent settlements. These buildings were correspondingly designed and functioning in a stationary way as the sites for holding public meetings with ritual activities important for the entire commune.
In the course of excavations at Hallan Çemi, Jerf al Ahmar (EA 7, EA 30) and Mureybet, unification of areas symbolically protected (sacral) with those economically significant for the collective of a commune (manufacturing areas and places for exchange, storage or distribution of products) was discovered in some special buildings.
Convincing archaeological evidence indicates that special public edifices of undoubtedly ritual purpose existed as early as the pre-ceramic Neolithic period. The House of Skulls at Çeyönö-Tepesi, in particular, while fulfilling the function of the communal cemetery, was in addition the place for performing special public ceremonies, intended evidently to help relatives in their passage to the other world, as well as to continue the ties and sacral unity between the living and dead members of the commune.
Materials from other “unique structures” of Çeyönö-Tepesi, as well as those from EA 53 and EA 100 of Jerf al Ahmar and buildings II and III of Nevali Çori, suggest that ritual public buildings of somewhat differing character, not related directly with funerary rites, also were functioning at these settlements [On the territory of Levant, certain similarity with them is expressed in extraordinary structures of Ain Ghasal (Rollefson 1998; 2000) and Beida (Kirkbride 1966)]. The extraordinary structures erected at the edge of the sites mentioned above were situated between the occupied and “undeveloped” areas — in the points where these zones were contiguous. This must have reflected symbolically the significance of these structures as some sacral centres linking the settlers’ commune and the surrounding world. Topographic and some other evidence yielded by excavations, as well as the general historical and ethnographic knowledge, give us grounds to suppose that the owners of the proto-temples were tied in some special “genetic” way both with the site of the settlement and the generations who had been living there for a long time. In the given case, the ancestors’ cult was combined with the worship of powers of the nature and spirits of a particular locality. The existence of this cult has been recorded at a fairly high stage of its development.
Finally, numerous remarkable objects of the earliest arts have been discovered throughout the entire territory of Göbekli-Tepe, reflecting in their aggregate complicated systems of ritual organization of the ceremonies which were regularly performed here. These finds have formed the basis for the hypothesis about some special role of this settlement as the religious centre for the inhabitants of surrounding localities in the Early Neolithic epoch. This supposition seems to be quite justified in terms of the recently obtained evidence on the PPN period, nevertheless it has not as yet been confirmed by any studies of the chronologically close sites lying nearby.
To conclude, it should be mentioned that due to the scantiness of the sources available, the types of ritual structures have been distinguished here rather arbitrarily, without any distinct boundaries. Nevertheless, the analysis conducted has shown to a certain extent the abilities of the collective that erected these structures and worshipped the deities inhabiting them — separate families or clans, the entire community or, possibly, a still wider circle of population. No stricter classification is possible since various intermediate types and variants of cult structures seem to have been functioning at the time and because the structures themselves were gradually evolving in terms of their social significance, their attributes and the character of the rites performed.
Кутимов Ю. Г. Степные элементы в погребальном обряде могильника Заманбаба (к вопросу о происхождении и хронологии заманбабинской культуры эпохи бронзы Средней Азии)
Археологическая культура бронзового века Средней Азии, известная под названием «заманбабинской», включает в себя три археологических комплекса – могильник и два поселения, расположенные в низовьях р. Заравшан на территории Бухарской области Узбекистана. Данные комплексы были исследованы в 1950-1964 гг. археологами Института истории и археологии АН Узбекистана (Гулямов, Исламов, Аскаров 1966).
Могильник Заманбаба является основным объектом исследования заманбабинской культуры. Из поселенческих комплексов только одно можно считать собственно поселением, второе представляет собой кратковременную стоянку с развеянным культурным слоем. Общая степень их информативности чрезвычайно низкая, поэтому при изучении заманбабинской культуры главным образом привлекаются материалы раскопок могильника.
Практически все исследователи, изучавшие археологические комплексы заманбабинской культуры, отмечали уникальное земледельческо-степное сочетание признаков в погребальном обряде могильника Заманбаба. Значительная часть сопроводительного инвентаря могильника, в число которых входят бусы из различных пород камня, каменные подвески, навершия, медные круглые зеркала без ручек, лопаточки, терракотовая статуэтка, два фрагмента от гончарных сосудов и пр. находят аналогии в земледельческих комплексах Южной Туркмении эпохи Намазга IV – Намазга VI и синхронных им памятников смежных территорий (Ирана и Афганистана). С другой стороны, в погребениях могильника Заманбаба есть ряд признаков, указывающих на связь с погребальными традициями племен эпохи бронзы степной зоны Евразии – присутствие в могилах красной краски, мела, древесного угля, яйцевидной и круглодонной керамики и пр. Одной из наиболее примечательных особенностей погребального обряда могильника Заманбаба является традиция захоронения умерших в могилах подбойно-катакомбного типа, совершенно нехарактерная для местного среднеазиатского населения в эпоху ранней и средней бронзы.
В настоящее время существует несколько гипотез происхождения могильника Заманбаба, каждая из которых по своему объясняет вопросы культурной и хронологической атрибуции данного памятника. В целом, на сегодняшний день для заманбабинской культуры было предложено несколько различных датировок: вторая половина III – начало II тыс. до н.э. (Массон 1959: 113); конец III – начало II тыс. до н.э. (Латынин 1958: 52; Кузьмина 1958: 33; Кузьмина 1968: 306; Алёкшин 1986: 99; Виноградов, Итина, Яблонский 1986: 72); конец III – первая половина II тыс. до н.э. (Массон 1966: 208; Мандельштам 1972: 8); первая половина II тыс. до н.э. (Аскаров 1962: 10; Гулямов, Исламов, Аскаров 1966: 166); вторая четверть II тыс. до н.э. (Аскаров 1981: 109); середина II тыс. до н.э. (Хлопин 1983: 70); последняя четверть II тыс. до н.э. (Пьянкова 1989: 61); рубеж II – I тыс. до н.э. (Сарианиди 1979: 24).
Вместе с этим, существует шесть версий генетического происхождения заманбабинской культуры эпохи бронзы Средней Азии: потомки местных неолитических кельтеминарцев (Массон 1966: 208); выходцы из среды древнеземледельческой культуры Сапалли южного Узбекистана (Аскаров 1981: 109); древнеземледельческие племена, пришедшие в низовья Заравшана с территории северного Афганистана (Сарианиди 1979: 27); население, генетически связанное с катакомбной культурной общностью степной зоны Евразии (Алёкшин 1986: 98); местное население, входившее в круг культур степного типа, которое подверглось сильному влиянию со стороны южных земледельческих культур (Кузьмина 1958: 33; Аскаров 1962: 10, 11; Гулямов, Исламов, Аскаров 1966: 170; Виноградов 1968: 151); степные племена, сочетавшие в облике своей материальной культуре признаки сразу трех степных культур – ямной, катакомбной и афанасьевской (Латынин 1958: 52).
Причиной для серьезных исследовательских противоречий в вопросах происхождения и хронологии заманбабинской культуры является маловыразительность её материальных комплексов, при почти полнейшем отсутствии эталонных признаков, что создает почву для появления многочисленных и противоречивых трактовок одного и того же археологического материала. Представленные в погребениях могильника предметы сопроводительного инвентаря имеют либо широкие хронологические рамки существования (например, каменные бусы, медные круглые зеркала без ручек и лопаточки в целом датируются с III по I тыс. до н.э.), либо характерное своеобразие, затрудняющее поиск точных аналогий.
Задачей данного исследования являлось определение вероятной степени генетической связи населения, оставившего могильник Заманбаба, с кельтеминарской культурой эпохи неолита, а также со степными культурами бронзового века степной зоны Евразии, главным образом – региона волго-уральского междуречья. На основе сравнительного анализа погребального обряда могильника Заманбаба в работе были рассмотрены вопросы культурной и хронологической атрибуции памятника.
Проведенный анализ позволил выявить в погребальном обряде могильника Заманбаба определенный набор признаков, которые послужили основой для корректировки существующих в настоящее время представлений о происхождении, культурных связях и датировке данного археологического комплекса.
В погребальном обряде могильника Заманбаба в значительной степени преобладают традиции ямной культурной общности эпохи ранней бронзы степной зоны Евразии. Такие элементы, как восточная и северо-восточная ориентировка умерших, подсыпка из охры и мела, яйцевидные и круглодонные формы керамики, расположение инвентаря у головы умершего имеют степное происхождение и генетически связывают этот памятник с ямной культурной традицией Юго-Восточной Европы, в частности с культурами ямного типа Волго-Уральского междуречья.
Исходя из сравнительного анализа керамики могильника Заманбаба с керамикой степных культур бронзового века (ямной и катакомбной) был сделан вывод, что керамический комплекс могильника Заманбаба имеет весьма слабую (практически нулевую) связь с керамикой развитых этапов существования катакомбных культур степной зоны Евразии. Наибольшее число аналогий некоторым типам заманбабинских сосудов имеются в керамике ямной культуры.
Присутствие в комплексах заманбабинской культуры каких-либо элементов степной катакомбной культурной традиции не находит подтверждений в материалах могильника Заманбаба. По сути дела, единственным таким признаком является сам факт совершения некоторых захоронений в могилах катакомбной конструкции.
Не вполне определенной является связь заманбабинцев с носителями кельтеминарской культуры. Различия в погребальном обряде тех и других существенные. Если и были какие-то включения кельтеминарского населения в культуру Заманбаба, то этот процесс никак не отразился в погребальном обряде последних.
Формирование культуры Заманбаба происходило на основе синкретизации двух культурных традиций – пришлой степной, носившей ямный облик, и местной среднеазиатской. Конкретное отождествление последней с какой-либо из местных земледельческих культур крайне затруднительно, для этого не хватает фактического материала. Связь заманбабинцев с земледельческими культурами очевидна, так как в погребениях могильника Заманбаба присутствуют вещи, характерные для земледельческих культур (каменные бусы, подвески, медные зеркала и лопаточки, терракотовая статуэтка), а также два фрагмента от гончарных сосудов, один из которых имеет полнейшие аналогии в керамике древнеземледельческих памятников южной Туркмении эпохи Намазга IV. Большое число в комплексе могильника Заманбаба так называемых керамических «кормушек» позволяет провести линию культурных связей, между носителями культуры Заманбаба и одной из групп древнего населения Северного Афганистана, памятники которой археологически ещё не изучены.
Сумма всех признаков могильника Заманбаба позволяет синхронизировать данный археологический комплекс с одной стороны – с позднеямным временем развития культур степной бронзы, а с другой – со временем второй половины периода Намазга IV. Традиционные и радиоуглеродные датировки в целом не противоречат друг другу: позднеямное время в степной зоне и вторая половина эпохи Намазга IV в Средней Азии по традиционной шкале хронологии укладывается примерно в третью четверть III тыс. до н.э., а по шкале калиброванных радиоуглеродных датировок – в конец первой половины III тыс. до н.э. Учитывая современные данные хронологии, могильник Заманбаба можно датировать серединой III тыс. до н.э.
Yu. G. Kutimov. Steppe Elements in the Funerary Rites at the Cemetery of Zamanbaba (the Problem of the Origins and Chronology of the Bronze Age Zamanbaba Culture in Central Asia)
The archaeological culture of the Bronze Age in Central Asia, known as the “Zamanbaba culture”, is represented by three archaeological complexes: one cemetery and two settlement-sites situated in the lower reaches of the Zaravshan River, in the Bukhara province of Uzbekistan. These sites were investigated in 1950–1964 by archaeologists from the Institute of History and Archaeology, Academy of Sciences of Uzbekistan (Гулямов, Исламов, Аскаров 1966).
The cemetery of Zamanbaba is the key site for studies of the Zamanbaba culture. Of the settlement-sites only one may be considered as a settlement proper, the other having been just a temporary camp with its cultural layer now eroded by winds. The total informative capability of the latter two sites is extremely low; therefore studies of the Zamanbaba culture involve predominantly materials yielded by excavations of the cemetery.
Practically all of the researchers who studied archaeological complexes of the Zamanbaba culture have noted the unique combination of agriculturalist and steppe-type features in the funerary rites of the cemetery of Zamanbaba. Considerable part of accompanying goods, including beads of various kinds of stone, stone pendants, baton tops, round bronze mirrors without handles, small shovels, a terracotta figurine, and two fragments of wheel-made vessels, have parallels in agricultural complexes of southern Turkmenia of the Namazga IV – Namazga VI periods and at synchronous sites in the adjoining territories (Iran and Afghanistan). On the other hand, burials of the cemetery of Zamanbaba show a number of features which suggest their ties with funerary traditions of the Bronze Age tribes of the steppe zone of Eurasia: the presence of red dye, chalk and charcoal in the graves, egg-shaped and round-bottomed pottery, etc. One of the most remarkable peculiarities of the funerary rites at the cemetery of Zamanbaba is the tradition to bury dead in graves of a catacomb type absolutely uncharacteristic of the local Central Asian population during the early and middle Bronze Age.
At present, there are quite a number of hypotheses on the origins of the cemetery of Zamanbaba, each differing in its explanation of the problems of the cultural and ethnic attribution of the site. By now, several differing dates have been proposed for the Zamanbaba culture in general: the second half of the 3rd – beginning of the 2nd mil. BC (Массон 1959: 113); the end of the 3rd – beginning of the 2nd mil. BC (Латынин 1958: 52; Кузьмина 1958: 33; Кузьмина 1968: 306; Алёкшин 1986: 99; Виноградов, Итина, Яблонский 1986: 72); the end of the 3rd – first half of the 2nd mil. BC (Массон 1966: 208; Мандельштам 1972: 8); the first half of the 2nd mil. BC (Аскаров 1962: 10; Гулямов, Исламов, Аскаров 1966: 166); the second quarter of the 2nd mil. BC (Аскаров 1981: 109); the middle of the 2nd mil. BC (Хлопин 1983: 70); the last quarter of the 2nd mil. BC (Пьянкова 1989: 61); the turn of the 2nd and 1st mil. BC (Сарианиди 1979: 24).
Along with these hypotheses, six views on the genetic origins of the Zamanbaba culture have been proposed regarding its bearers as: descendants of the local Neolithic Kelteminarians (Массон 1966: 208); natives of the early agricultural Sapalli culture in southern Uzbekistan (Аскаров 1981: 109); the early agriculturalist tribes which came to the Lower Zaravshan River from the territory of northern Afghanistan (Сарианиди 1979: 27); a population genetically linked with the catacomb cultural unity of the steppe zone of Eurasia (Алёкшин 1986: 98); local population making part of the circle of cultures of the steppe type which had been strongly influenced by the southern agrarian cultures (Кузьмина 1958: 33; Аскаров 1962: 10, 11; Гулямов, Исламов, Аскаров 1966: 170; Виноградов 1968: 151); steppe tribes which combined in the appearance of their material culture simultaneously some features of three steppe cultures at once — the Yamnaya (Pit culture), Catacomb and Afanasyevo (Латынин 1958: 52).
The reason of serious contradictions in the problem of the origins and chronology of the Zamanbaba culture is the poor expressiveness of the latter’s material complexes and the almost complete absence of the type features leading to multivariate and conflicting treatments of the same archaeological evidence. The objects found among the funerary offerings at the cemetery are characterized either by very broad chronological frames of their use (e.g. stone beads, round copper mirrors without handles and small shovels are dated in general to the period from the 3rd to the 1st millennia BC) or by such extraordinary peculiarities that make it difficult to find any close parallels.
The present paper aims to define the possibility of genetic ties of the population which left the cemetery of Zamanbaba with the Neolithic Keltiminar culture, as well as with Bronze Age cultures of the steppe zone of Eurasia, mainly those in the region between the Volga and Ural rivers. Problems of the cultural and chronological attribution of the site are discussed here on the basis of a comparative analysis of the funerary rites at the Zamanbaba cemetery.
The analysis conducted allows us to distinguish a certain set of features in the funerary rites of the cemetery of Zamanbaba which give a basis for correction of the present-day notions about the origins, cultural ties and dating of the archaeological complex under consideration.
Dominating in the burial rites of the Zamanbaba cemetery were the traditions of the early Bronze Age Yamnaya cultural unity from the steppe zone of Eurasia. Such elements of the ritual as the eastern and north-eastern orientation of the buried, staining with ochre and chalk, egg-shaped and round-bottomed forms of pottery, and the offerings put near the head of the buried are of the steppe provenance, linking this site genetically with the Yamnaya cultural traditions of South-Eastern Europe, in particular with Yamnaya type cultures from the region between the Volga and Ural rivers.
A comparison of the pottery from the cemetery of Zamanbaba with that of steppe cultures (Yamnaya and Catacomb) of the Bronze Age leads us to the conclusion that the ceramic complex of Zamanbaba has very weak (practically zero-level) ties with pottery of the developed stages of the catacomb cultures of the steppe zones of Eurasia. The most numerous parallels to certain types of Zamanbaba vessels are found in the pottery of the Yamnaya culture.
No elements of the steppe catacomb tradition still have been found among the materials from the Zamanbaba cemetery. Actually, the only indication of this tradition is the fact of occasional interment of the dead in graves of a catacomb construction.
Neither any ties of the Zamanbaba population with bearers of the Keltiminar culture have been established for certain. Differences between the two funerary rites are considerable. If even there were any inclusions of some Keltiminar population into the Zamanbaba culture, the process had no reflection in the funerary rites of the latter.
The formation of the Zamanbaba culture occurred on the basis of the syncretization of two cultural traditions – the newly arrived steppe culture of the Yamnaya appearance and the local Central Asian one. A reliable identification of the latter with any of the local agricultural cultures is very difficult due to the lack of any factual evidence. Ties of Zamanbaba population with agricultural cultures are obvious since burials of the Zamanbaba cemetery contain objects peculiar to agriculturalists (stone beads, pendants, copper mirrors and shovels, a terracotta figurine). These objects include also two fragments of wheel-made vessels, one of which has quite exact parallels among the pottery of early agriculturalist sites in southern Turkmenia of the Namazga IV period. Numerous finds of so-called ceramic “mangers” among the complex from the cemetery of Zamanbaba afford us to trace a line of cultural connections between bearers of the Zamanbaba culture and one of the groups of ancient population of northern Afghanistan, no sites of which have as yet been studied archaeologically.
The aggregate of characteristics of the cemetery of Zamanbaba allows us to regard this archaeological site as synchronous on the one hand with the late Yamnaya period of the development of steppe cultures of the Bronze Age, and on the other hand, with the second half of the Namazga IV period. A traditional and a radiocarbon dating do not contradict each other in general: the late Yamnaya period in the steppe zone and the second half of the Namazga IV period in Central Asia according to the traditional chronological scale occupy approximately the third quarter of the 3rd millennium BC, whereas the scale of calibrated radiocarbon dates gives the end of the first half of the 3rd millennium BC. Taking into account the modern chronological data, the cemetery of Zamanbaba may be dated to the mid-3rd millennium BC.
Билде Пиа Гулдагер. Что скифского было в «Скифской Диане» из Неми?
а) Как отметил еще Страбон, Святилище Дианы Дубравной называлось “скифским” из-за практики ритуализированных человеческих жертвоприношений.
б) Страбон вероятно знал Святилище Дианы Дубравной по личным наблюдениям. Маловероятно, что он сам был создателем этиологии этого культа как копии культа Таврополос, хотя он первый (вместе со своим современником Овидием) ее зафиксировал.
в) Создание визуального воспроизведения странствующего таврского образа, Taurу-polos в еврипидовском смысле, относится по-видимому приблизительно к 100 г. до н.э., и было основано на образе поздней “таврской” богини – херсонесской Партенос. Связь между еврипидовским описанием Таврополос как Elaphochthonos и появлявшимися в Херсонесе на протяжении трех четвертей тысячелетия изображениями божества, убивающего оленей – изображениями крайне редко встречающимися в других местах, – представляет первостепенное значение.
г) Возможно, что данное иконографическое (пере)осмысление возникло в Понтийском царстве Митридата VI.
д) Римляне могли столкнуться с изображениями божества убивающего оленя, либо в Херсонесе, либо на Делосе, либо в Понтийском царстве.
е) Учитывая роль Артемиды (Персидской) в 3-й Митридатовой войне и тот факт, что по крайней мере один, а скорее всего два крупных монумента были воздвигнуты в Святилище одним или двумя римскими военачальниками, вернувшимися с победой с этой войны, имеется вероятность того, что именно это событие подстегнуло переосмысление культа Дианы Дубравной как Дианы Таврополос.
Pia Guldager Bilde. What was Scythian about the “Scythian Diana” in Nemus Aricinum?
This article aims to show that
(a) As already noted by Strabo, the Sanctuary of Diana Nemorensis by Lake Nemi in Central Italia was called “Scythian” because of the custom of ritualised human sacrifices practised there.
(b) Strabo probably knew the Sanctuary of Diana Nemorensis at first hand. It seems unlikely that he was the creator of the aition of the cult as a copy of that of Tauropolos, though it is Strabo (and his contemporary Ovid) who were the first to formulate this view.
(c) The creation of the visual representation of the travelling Taurian image, the Tauró-polos in the Euripidean sense, probably took place around 100 BC modelled upon the image of a later “Taurian” goddess – Chersonesean Parthenos. Of decisive importance is here the link between Euripides’s description of Tauropolos as elaphochthonos (deer-killing) and the representations of a deer-killing deity reproduced in Chersonesos throughout three quarters of a millennium but extremely rare elsewhere.
(d) This iconographical (re)interpretation may have been created in the Pontic Kingdom of Mithridates VI.
(e) The Romans could have encountered the representations of a deer-killing deity either in Chersonesos, in Delos, or in the Pontic Kingdom.
(f) Taking into account the legendary role of Artemis (Persike) in the 3rd Mithridatic War and considering the fact that at least one, more likely two, important monuments were erected in the Sanctuary by some victorious Roman officers of that war, it is possible that exactly these events prompted the reinterpretation of the cult of Diana Nemorensis as that of Tauropolos.
Виноградов Ю. А., И. Ю. Шауб. О семантике изображений на золотых статерах Пантикапея
Золотые статеры, которые чеканились в Пантикапее при Левконе I начиная с 70-х гг. IV в. до н.э., очень хорошо известны как в научной, так и в популярной литературе, и эта известность вполне оправдана. Безусловно, они являются подлинными шедеврами древнегреческого прикладного искусства. Выпуском этих монет единое греко-варварское государство, созданное Сатиром и Левконом I, явно стремилось, так сказать, громко заявить о своем существовании.
С лицевой стороны на них отчеканено изображение лохматой головы, которую обычно считают головой сатира. На обратной стороне представлен целый ряд образов: грифон, идущий по колосу влево, со стрелой (коротким копьем?) в пасти, а также буквы ПАN. На первый взгляд, все эти изображения кажутся случайным набором образов и предметов, лишенным какой-либо внутренней связи. Такую связь, однако, можно усмотреть. Вопреки бытующим представлениям, есть все основания утверждать, что изображения на пантикапейских золотых статерах IV в. до н. э. семантически связаны между собой и имеют глубокую символику, в которой фокусируется специфика религиозно-мифологических представлений греко-варварского населения Боспора.
Изображение головы сатира должно служить намеком на близкое присутствие Диониса, спутником которого сатиры обычно считаются. С другой стороны, сатиры явно имеют отношение к стране мертвых, а Дионис в этом отношении может трактоваться как хтоническое божество.
На обратной стороне монеты общая композиция кажется несколько перегруженной – колос, грифон, стрела. Главным персонажем, безусловно, является грифон, но что его может связывать с колосом и стрелой? Вероятнее всего, грифон на монете является символом Аполлона Гиперборейского. Специалисты считают, что колос, изображенный на монете, может быть колосом двух сортов пшеницы (Triticum compactum Hast. или Triticum dicoccum). Показательно, что на Боспоре и вообще в греческих государствах региона эти злаки специально не высевались, но они были очень типичны для земледельческих племен лесостепей Северного Причерноморья. Имеются основания связать изображение колоса на боспорских монетах с представлением о священных дарах гиперборейцев, главным предметом которых была пшеница (колоски или солома). Священная стрела также очень тесно связана с миром Аполлона.
Вся монета в целом (изображения лицевой и обратной стороне) должна ассоциироваться с двумя божествами – Дионисом и Аполлоном. Такое соседство, на первый взгляд, представляется странным, поскольку в сознании современного человека прочно утвердилось представление об их противоположности, глубочайшем различии «рационального» мира Аполлона и «иррационального» мира Диониса. Надо признать, однако, что это представление, базирующееся на идеях Ф.Ницше, к греческой религии не имеет особого отношения. На деле эти два божества были связаны между собой самым тесным образом.
Вполне очевидно, что золотые статеры Пантикапея демонстрируют идею единства Диониса и Аполлона, в данном случае выступающую как единство Диониса хтонического и Аполлона Гиперборейского. Такая символика однозначно указывает на то, что Боспорское государство по представлениям древних греков находилось на краю ойкумены, поблизости от страны гипербореев, с одной стороны, а с другой, – около входа в царство мертвых. Если понимать проблему шире, под этим углом зрения можно трактовать одно из направлений осмысления греческими колонистами Боспора своего места в мире, при этом, разумеется, не только в мире живых, но и в его соотношении с миром богов и царством мертвых.
Yu. A. Vinogradov, I. Yu. Shaub. The Semantics of Representations on Gold Staters of Panticapaeum
Gold staters which were minted in Panticapaeum under Leucon I since the 370s BC are widely known both from scientific and popular literature. The renown of these coins is quite justified because they are undoubtedly masterpieces of the ancient Greek applied art. By their issues, the united Graeco-Barbarian state created by Satyr and Leucon I manifestly attempted to declare its existence, so to speak, in a loud voice.
Minted on their obverse is a representation of a head with tousled hair which is generally believed to be that of a satyr. On the reverse, quite a series of images are represented: a griffin walking upon an ear of corn, left, with an arrow (or short spear?) in the mouth and, in addition, the letters ПАN. At first glance, all these representations look like a chance combination of images and objects devoid of any inner ties. Meanwhile, it is still possible to descry these ties. Despite the accepted views, there is every reason to suppose that the representations on Panticapaeum gold staters of the 4th century BC were semantically interconnected and possessed a deep symbolism in which the peculiarities of religious and mythological concepts of the Graeco-Barbarian Bosporus were focused.
The representation of a satyr’s head may have been an allusion to the close presence of Dionysus who was commonly believed to be accompanied by satyrs. On the other hand, satyrs undoubtedly were related with the land of dead, so that in these terms Dionysus may be considered as a chthonic deity.
The general composition on the coin reverse seems to be rather overstrained — ear of corn, griffin and arrow. The major character here undoubtedly is the griffin, but what may have connected it with corn and an arrow? Most probably, the griffin on this coin is a symbol of Apollo Hyperboreas. Botanists suppose that the ear represented on the coin may belong to either of two sorts of wheat: Triticum compactum Hast. or Triticum dicoccum. It is noteworthy that in the Bosporus, as well as in any other Greek states of the region, these cereals were never sown specially, but they were quite typical to agricultural tribes of the forest-steppes of the northern Black Sea area. There are grounds to connect the representation of an ear of corn on Bosporan coins with the concepts of the gifts of Hyperboreans which included wheat (ears or straw) as the main item. A sacred arrow also is very closely related to Apollo’s world.
As a whole, the coin type under consideration must have been associated with two deities — Dionysus and Apollo. Such a neighbourhood seems strange at first glance since the ideas about the exact antithesis of the two gods and deep differences between the “rational” world of Apollo and the “irrational” one of Dionysus have been firmly enrooted in the minds of modern humans. We must recognize, however, that these concepts, based on Nietzsche’s ideas, actually have little in common with the Greek religion. In fact, the two deities mentioned above were very closely interrelated.
It is quite obvious that the gold staters of Panticapaeum demonstrate the idea of a unity of Dionysus and Apollo — in our case, it is the unity of Chthonic Dionysus and Hyperborean Apollo. Symbolism of this kind indicates unambiguously that, in the minds of ancient Greeks, the Bosporan state was situated at the edge of the oikoumene — not far from the land of Hyperboreans on the one hand, and close to the entrance to the kingdom of dead on the other. From this point of view, we may treat the problem wider as a line in which Greek colonists of the Bosporus conceptualized their place in the world and, needless to say, not only in the world of the living, but also in it’s relation to the world of gods and the kingdom of dead.